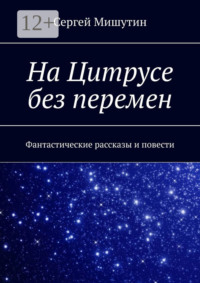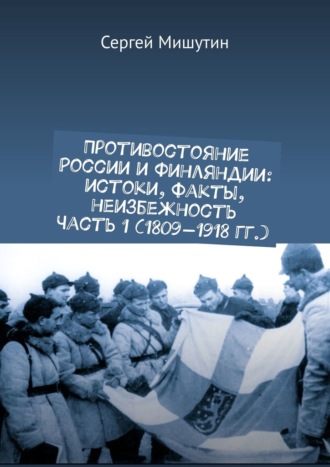
Полная версия
Противостояние России и Финляндии: истоки, факты, неизбежность Часть 1 (1809—1918 гг.)
Теоретически можно было бы, не доводя до крайностей, предложить финнам вариант полного суверенитета с прохождением границы на выгодных для России рубежах, то есть хотя бы не в 30 км. от столицы. Благо основная часть территории Финляндии была присоединена к России существенно позже Выборга и прилегающих территорий Карельского перешейка. Сто лет – период времени более чем достаточный для естественной русификации без этнических чисток и прочего грубого насилия. Условия для такой сделки в первой половине XIX века были вполне благоприятными и сохранялись частично примерно до 80-х годов, так как в Финляндии наличествовали определенные политические силы, имевшие вес в обществе, рассчитывавшие на укрепление финского суверенитета и повсеместное внедрение финского языка в пику многовековому шведскому влиянию при поддержке России и под ее защитой.
Позволим себе процитировать дословно «Приветственное слово от национального архива Финляндии», открывающее первый том архивного сборника «Россия и независимость Финляндии», изданного Федеральным архивным агентством РФ (Росархивом) в 2021 году.
«Благодаря благосклонности Императоров исключительное положение Финляндии укреплялось в течение первых десятилетий автономии. В Финляндии особую популярность приобрел Император Александр II, созвавший в 1863 г. государственный Сейм и сделавший его работу постоянной. Император также оказал влияние на внутреннее развитие финляндского общества. Важным шагом стал и подписанный Александром II в 1863 г. Манифест о языке, который делал финский, наравне со шведским, государственным языком Великого княжества».

Памятник Александру II в Хельсинки. FAL
На пике верноподданических настроений финского населения можно было сделать многое. Но история, как известно, сослагательного наклонения не признает. Было то, что уже случилось. И именно случившееся можно с полным правом назвать «миной замедленного действия», только царской, а не ленинской. Правительство Ленина признало независимость Финляндии, не имея каких-либо возможностей повлиять на ситуацию – просто подтвердило юридически свершившийся факт. А привели к этому факту совместные усилия царских чиновников и Временного правительства.
Еще раз обратим внимание читателей на важное обстоятельство: никакой Финляндии как отдельного государства до Октябрьской революции не было. Версия о некоей «унии» с Россией или даже персонально с Государем Императором российским официозом того времени категорически отвергалась.8 Чтобы не быть голословным, предлагаю кратко рассмотреть следующий документ.
Заключение по проекту основных законов Великого Княжества Финляндского: «формы правления» и «сословные привилегии» выработанному Особым, учрежденным, по Высочайшему повелению 9/219 марта 1885 г., комитетом в г. Гельсингфорсе10
«Необходимость приведения в положительную известность всех действующих в Великом Княжестве Финляндском законоположений, относящихся к его управлению, с давнего времени озабочивало Правительство. В тронной речи Блаженной Памяти Александра II, 18 сентября 1863 года при открытии Финляндского Сейма, упомянуто было о необходимости установления свода вышеозначенных узаконений „взамен тех постановлений коренных законов Великого Княжества, которые оказываются несовместимыми с положением дел, возникшим после присоединения этого Княжества к Империи“. Вследствие сего, по программе, предварительно одобренной правительством 7/19 декабря 1864 года, особым комитетом из чинов Великого Княжества был составлен в 1865 году проект уложения для сего Княжества, но проект этот не получил утверждения и в тронной речи 26 января 1867 года… было указано на утратившую силою обстоятельств совместность коренных законов Великого Княжества с положением дел, возникшим после присоединения Финляндии к Империи…»
Далее упоминается очередной комитет «из чинов Великого Княжества», который подготовил два законопроекта: «Форма правления» и «Сословные привилегии» именно для Финляндии. В основу их были положены «древние шведские законы», для членов комитета остающиеся непреложными и первостепенными. И это при том, что они вступали в явное противоречие с существующей в России государственной системой, т. е. самодержавием. Авторы «Заключения», опираясь на тексты документов, определивших присоединение Финляндии к России, напоминают, что «в мирном трактате, заключенном в Фридрихсгаме» в статье IV сказано:
«Его Величество Король Шведский, как за себя, так и за преемников Его престола и королевства Шведского, отказывается неотменяемо и навсегда в пользу Его Величества Императора Всероссийского и преемников Его престола и Российской Империи от всех своих прав и притязаний на губернии… Кюмменегордскую, Нюландскую и Тавастгускую, Абовскую и Биернеборгскую с островами Аландскими, Саволакскую и Карельскую, Вазовскую, Улеаборгскую и часть западной Ботнии до реки Торнео… Губернии сии, со всеми жителями, городами, портами, крепостями, селениями и островами… будут отныне состоять в собственности и Державном обладании Империи Российской и к ней навсегда присоединяются».
Ни о какой «унии», как видно, речи нет.
Но финнам было приятно и удобно видеть ситуацию по-другому, а статус широкой автономии этому максимально благоприятствовал. По этому поводу авторы «Заключения» выразились вполне однозначно, видимо, вопрос был наболевшим:
«…Засим высказываемые мнения о реальной унии Финляндии с Россией или же о личной их унии только в Особе Императора не оправдываются никакими актами, а посему представляются лишенными всякого основания».
Забегая вперед, отметим, что в 1917 году именно миф о «личной унии» был использован финскими законодателями для принятия декларации о независимости. Впрочем, заключения и заявления – это одно, а реальное положение дел, конкретные действия – совсем другое.
В 1864 году финский журналист Шауман11 начал распространять через издаваемую им на шведском языке газету идею упомянутой ранее «личной унии», заключенной якобы на Боргоском сейме 1809 года. Публициста авторитетно поддержал сенатор и профессор государственного права Лео Мехелин в 1886 году. Его идеи подхватили другие профессора, журналисты и сенаторы, которые через своих учеников и доверенных лиц, постепенно продвигавшихся на все административные посты в Великом княжестве, закрепляли всеобщую уверенность, что Финляндия – отдельное государство, связанное с Российской Империей договорными отношениями через особу Государя Императора и не более того.
Воспетый литераторами «финский дух» и финская государственность как таковая являются результатом долготерпения российских императоров, позволявших долгое время сохраняться в пределах империи практически независимой территории, имеющей свою собственную Конституцию (в значительной степени базирующуюся на шведском праве), свой парламент (Финляндский Сейм), правительство (Императорский Финляндский Сенат), собственную таможню (и свои таможенные тарифы), собираемые исключительно для нужд Великого княжества налоги, свою судебную систему, свои деньги и свои военизированные структуры. Преподавание в учебных заведениях Финляндии велось на финском и шведском языках, как и делопроизводство в государственных учреждениях (вплоть до начала XX века). Более того, жители остальной части империи не обладали на территории Финляндии теми же правами, что имели местные жители. Финны являлись гражданами ВКФ12, а вот на остальной территории России такого понятия в то время не существовало, имелись лишь подданные Его Императорского Величества.
Когда встал вопрос о возможности участия финских депутатов в работе Государственной Думы, министр-статс-секретарь13 Великого княжества Финляндского генерал-лейтенант А. Ф. Лангоф направил председателю Государственного совета графу Д. М. Сольскому отношение (т. е. служебную записку, содержащую личную оценку ситуации) от 7 марта 1906 года, где делал акцент на незнании русского языка потенциальными финскими представителями, имеющими авторитет среди народа, отмечая, что данное обстоятельство не позволит им эффективно взаимодействовать с прочими депутатами. То есть государственным языком Империи не владели (или не желали попросту его изучать) отнюдь не темные крестьяне или рыбаки из финской глубинки.

Министр-статс-секретарь ВКФ Барон Карл-Фридрих-Август Федорович Лангоф (1856—1929), датчанин по происхождению. Общественное достояние (public domain). Juhani Mylly: Edustuksellisen kansanvallan läpimurto. Edita, 2006; s. 199.
С учетом огромных средств, вложенных в развитие народного образования в Финляндии, это выглядит несколько странно. Но так было. Все дело в том, что финские школы активно насаждали агрессивный национализм за русские деньги. Парадокс? Безусловно!

В Финляндии, формально входящей в состав Российской империи, имелась собственная денежная система, отличная от общегосударственной, чеканились свои монеты, и они же имели хождение. Ситуация, прямо скажем, странная, чтобы не сказать абсурдная. На фото представлен экземпляр (современная копия) из личной коллекции автора.
Данный вопрос занимал не только автора этой книги, но и многих думающих людей, живших в описываемый период. Зачем вообще нужно России содержать подобное автономное образование, категорически не желавшее разделять общегосударственные интересы? И ответ тут был настолько очевиден, что заболтать его велеречивой ерундой о высочайшем повелении или соизволении не удавалось никак. Ниже приведен характерный пример – книга П. И. Мессароша14 «Финляндия – государство или русская окраина?», изданная в 1897 году. Петр Ипполитович к великорусскому шовинизму был явно непричастен по причине венгерского происхождения (правильное написание фамилии – Mészáros), так что к его мнению имеет смысл прислушаться. Отметим также, что ближе к началу XX века статьи Мессароша, посвященные Финляндии, перестали печатать, посчитав их слишком резкими, говоря современным языком, «сеющими межнациональную рознь». И, как показали дальнейшие события, совершенно зря. Предсказанное российским адвокатом и журналистом венгерского происхождения вооруженное восстание в Финляндии таки случилось, правда, оно было искусно замаскировано под общероссийский всплеск революционного движения 1904—1905 годов.
Позволим себе процитировать предисловие из книги Мессароша, разумеется, в варианте современной орфографии:
«В газете „Новое время“ мы, к немалому нашему удивлению, прочли в статье г-на Молчанова „Деятельность министерства юстиции в 1895 году“ … уверения автора, что с открытием Архангельского окружного суда настанет настоящий праздник судебных уставов Александра II, что кроме мест кочевья, в Европейской России не будет ни кусочка территории, изъятой из действия этих уставов. Неужели почтенный автор означенной статьи позабыл, что не только с открытием Архангельского окружного суда, но даже и при распространении этих уставов „правды и милости“ на места кочевья, на карте Европейской России все также останется целый край в 365 590 квадратных километров с населением в 2 483 249 человек
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Договор подписан в Москве 6 апреля 1948 года со стороны СССР министром иностранных дел В. М. Молотовым, со стороны Финляндской республики – премьер-министром М. Пеккала.
2
На эту тему настоятельно рекомендуем книгу российского писателя и историка, ветерана внешней разведки, долгое время работавшего в скандинавских странах, Б. Н. Григорьева «Принуждение к миру».
3
Пятый пункт договора в русском варианте выглядел так: «…Сверх того хочет е. ц. в. обязан быть и обещает е. к. в. сумму двух миллионов ефимков исправно без вычета и конечно от е. к. в. с надлежащими полномочными и расписками снабденным уполномоченным заплатить и отдать указать на такие сроки и такой монетой, как о том в сепаратном артикуле, который такой же силы и действа есть, яко бы он от слова до слова здесь внесен был, постановлено и договорено».
4
За подробностями отсылаем читателя к книге Б. Н. Григорьева «Россия и Швеция после Северной войны».
5
В русскоязычной версии это Або (Турку). Правильно по-шведски произносится именно «Обу» – Åbo. Подобное различие в транскрипции не редкость, например, Ляйпциг (немецкий вариант) и Лейпциг (русский).
6
Жан-Батист Жюль Бернадот (фр. Jean-Baptiste Jules Bernadotte) с 1818 года под именем Карл XIV Юхан стал королем Швеции и Норвегии, родоначальником новой династии. С 1810 года являлся регентом и кронпринцем, фактически управляя королевством, был официально усыновлен тогдашним королем Карлом XIII, никакого влияния на тот момент не имевшим по состоянию здоровья.
7
Эссе неизвестных авторов «Финляндия: страна, которая боролась». ЦАМО. Ф. 500. Оп. 12451. Д.548.
8
Тем не менее именно убежденность в наличии упомянутой унии составляла основу мировоззрения абсолютного большинства граждан Финляндии к концу XIX века.
9
Григорианский календарь был введен в Финляндии в XVIII веке. Окончательно страна приняла его в 1753 году, когда за 17 февраля последовало 1 марта. Присоединение Финляндии к Российской империей в 1809 году не изменило этого, однако правительственные документы датировались как в юлианском, так и в григорианском стилях, числа указывались через черту, а не с круглыми скобками, как в современных текстах.
10
Цитируется по экземпляру библиотеки им. В. И. Ленина в оцифровке Президентской библиотеки в варианте современной орфографии. Документ подписан статс-секретарем Эдуардом Васильевичем Фришем.
11
Шауман Йозеф Август (1826—1896). Личное имя пишется вторым, поэтому в литературе упоминается как А. Шауман. Основал самую распространенную в Финляндии шведскую газету «Hufvudstadsbladet», главным редактором которой состоял до 1885 г., участвовал в работе Сейма.
12
Великое княжество Финляндское (фин. Suomensuuriruhtinaskunta)
13
Министр-статс-секретарь являлся представителем ВКФ при особе Императора и одновременно высшим финляндским должностным лицом. Назначался преимущественно из лиц шведской национальности, уроженцев Финляндии. Проживал в Санкт-Петербурге, имел в распоряжении собственный аппарат. Как правило, по рангу был выше генерал-губернатора, хотя на практике обладал меньшими полномочиями.
14
Петр Ипполитович Мессарош (1844—1900) – российский политический обозреватель и корреспондент, выступавший с резкой критикой автономии Финляндии и сотрудничавший с генерал-губернатором Бобриковым. Фактически занимался подготовкой общественного мнения к проведению умеренной «русификации» Финляндии, проживая в Хельсинки. Из-за постоянных угроз и преследования вынужден был поселиться в казармах, а потом переехать в Петербург, где и умер.