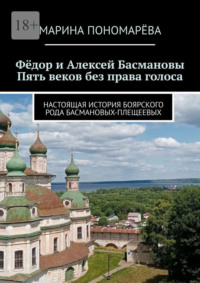Полная версия
Сын воеводы. Невечерний мой свет…
Рыжее носится, плещется зарево
Плещеевское, Залесское.
В гостинице занавеска пропустит лучи восходящего солнца,
Когда я уйду, забрав кольца, блокнот и куртку.
Я замру на минутку, чтобы запомнить ночь под звёздами Переславля…
– Марин, не читай мне больше стихи про Фёдора!
С подругой вместе много лет. Прошли огонь, воду, медные трубы. Стоит испуганная. Прикрылась платком, точно шибко верующая. Хотя все мы, дети советские, в Бога живого верим, во вселенную разумную, черта под лавкой держим, поплёвывая в сторону чёрной кошки.
Согласилась встретиться лишь в храме. Пусть думает, что здесь безопасно. Я чувствую, как за моей спиной усмехаются. Безрадостно, правда. А как же! Напуган. Что будет? Не откажусь ли? Не прогоню ли?!
Только потом соображаю, что за храм я для встречи выбрала. Проходим через зал, присаживаемся прямо напротив мощей митрополита Алексия. Что ж, прадедушка твой родной, тебя не защитил?! Тебя, «звезду златозарную»! Если ты не златозарный, то кто?! Не уберег, правнука своего! Что тяжёлое и страшное искупаешь ты, сокол, за весь род свой?
– Как придёшь, после тебя след. Иконы со стен падают. Не надо больше, мне страшно!
– Про Донбасс читать можно?
– Можно. И про остальное можно. Про Фёдора не надо.
Мне не легче. Наваливается духота, сжимает грудную клетку. Близким тоже прилетело. А про Донбасс сейчас не хочется. Совсем. Внутри про другое. И это другое – живое. Не мёртвое. Бьется, словно птенчик, ворочается. Все иголки свои выпустил. То мороком назовут, то бесом, а иголки выпускает в меня. В моё сердце. Теперь – моя защита нужна ему. И никого у меня кроме меня нет.
– В ваших последних стихах, Марина, душа рваная, – говорит постоянный читатель. Единомышленник. Сто лет знакомы.
– И это не ваша душа. В кровище всё плавает. Хорошие стихи, за это не переживайте. Если сможете. Вот только вы ли их пишите?
Тяжело. Ему пять веков тяжело. Сколько веков мне будет тяжело?
Я знаю, что нужно очищение и помощь. Иначе не вытяну. Ни себя, ни его. Надорвусь. Где это взять? Стаскиваю платок, смотрю на подругу. Не слышу и не слушаю.
Елохово. Митрополит Алексий – сын боярина Фёдора Бяконта. Ума может попросить? Сил? Нет. Помоги устоять! Между близкими и чужим, который близким стал, – выбирать не хочу. И не буду. Что-то внутри сразу дрожит, отзывается вопросом…«Не бросишь? Не оставишь? А я ведь тебя, девка, не пожалел, когда пришел!».
За храмом стоит школа, где училась мама. Девочка со Старой Басманной. На Басманную стекались нижегородские старообрядцы. Мои тоже. Увидел прадедушка красавицу Зинаиду в Корельском скиту, бросил на коня, увёз в столицу. Семейная легенда, которая не легенда.
Басманная – название знакомое с детства. Улица с Фёдором и Алексеем Басмановыми никак не связана, но при её упоминании, внутри теплеет. Всю жизнь рядышком.
От моих старообрядцев мне лишь икона досталась. Удивительно, но она вернулась домой всего несколько дней назад. Друзья родителей, с которыми я давно уже связь потеряла, разбирали антресоли, и нашли сумку с нашими вещами. Видимо, осталась с той поры, когда собственной дачи не имея, мы колесили по дачам родительских друзей.
Икона маленькая, деревянная, выщербленная по краям. Бордового оттенка, золотом украшенная. И вот, впервые в жизни я заинтересовалась, кто на ней изображен.
Пальцы с трудом гнутся, подношу икону к свету. Невесть откуда, посреди мрачного дождливого дня солнце выходит, золото вспыхивает. Словно нитью дорадовой вышито на кровянистом полотне… Феодор Стратилат! Вот оно. Вот же оно. Единственная родовая иконка уцелевшая, с детства над головой стояла. Феодор. Дар Божий! Заступник и помощник для воина. А Поэт – тоже воин.
Папка приснился за пару дней до своего дня рождения. Я как раз решала, куда поеду на эту скорбную дату. Но у нас в семье скорбеть не принято. В памятные дни отправляюсь не на кладбище (всегда успею!), а туда, где мы все вместе бывали. Последние годы жизни папки, многие города вдвоем объехали. Почти всё Золотое кольцо.
Во сне молчал. Удивил! Ушедшие приходят по-разному. Мама всегда строго себя ведет. Снится крайне редко, с лица никогда не показывается. Если показалась – к беде. А папка всегда весёлый, улыбчивый. Улыбка у него мягкая, чуть смущённая. А тут молчит. За ним – странный город.
А, помню, помню. Были там вдвоём. Вижу себя в красном платье. На волосах деревянный ободок с бирюзовыми каплями. Девочка совсем, ещё не рыжая. Не поэт и не воин. Оба грустим. Год как мамы с нами нет. Озеро рядышком, пронзительно голубое. Я по воде босиком бегала, по самой кромке.
Странное озеро. В нём отражаются все, кого здесь нет. Заглянешь в воду, а видишь на дне невообразимое! Такое, что и по секрету никому не расскажешь.
Я смотрела на озеро. Озеро на меня. Мы разошлись в разные стороны. Как мне казалось, чтобы друг про друга забыть навсегда. Лишь в начале этого года, когда мы сидели на «ковидной изоляции», постучалось стихотворение про Переславль. С чего вдруг?
«Переславль, так Переславль», – думаю я.
Накануне отъезда работаю в РГБ. Именно тогда впервые узнаю про Елизарово. Вот оно как! У Басмановых вотчина под Переславлем была. Бинго! А папа тут причем? Родители не шибко довольны всей этой историей, но девочку свою не оставляют. Впряглись.
Переславль. Сегодня пока ещё чужой город, в который я захочу сбежать через несколько лет так сильно, что Москву перестану воспринимать как родную. Город, который я никогда не постигну. Даже если навечно останусь на берегу Плещеева озера. Мой кармический город.
День первый
Обратных билетов в продаже нет, хотя туристический сезон заканчивается. Немного внезапно. Я строила другие планы. Остаюсь в Переславле на целых три дня. Едва за спиной закрываются двери автобуса, наступает странная тишина. Слышно как падают листья, а с листьев осыпается золотая пыль. Золото здесь повсюду. Сентябрь. Двадцать восьмое. Папин день. И день Никиты Готского. Но про второе я не знаю. Пока что.
Запрокидываю голову и слушаю. Наконец, понимаю, что изменилось! Мороков больше нет. Они остались в автобусе. Липкие и грязные бесы, прикрывающие свои рожи машкерными масками, позаимствованными из самых гадостных эйзенштейновских фантазий. Их будто не пустили сюда. Город встряхнулся, разбросал золото, зашевелился и отшвырнул незваных гостей куда-то в сторону то ли чумной столицы.
А мы? Мы с Фёдором?
Переславль… Ласковый. Осенний. Звенящий. Сила такая, что лучше не задумываться. Страшно станет. И эта сила за нас с тобой. Слышишь? Я чувствую, как меня осторожно трогают за плечо.
– Спасибо.
За что? Ах, да. Привезла. Привела. Лучшего сына Твоего. Он бы и сам мог, конечно. Летучий, крылатый, скользящий. Что ему теперь расстояния и преграды? Так ведь на живых-то плечах, с позволения человека живого, цена совсем другая. На искупление похожая. Когда говорят тебе, руку живую протянув: «Вместе пойдем! Я отведу тебя домой. Я отведу тебя туда, где ты был счастлив. Смотри моими глазами, трогай моими пальцами»…
Так наболело за пять веков, что нетерпение накануне извело. Утром до будильника разбудили, точно кто-то одеяло стянул. Подскочила ужаленная. Кроме меня дома никого, муж у родителей. Но я уже почти привыкла. Обещала? Выполняю.
Едва слышное «спасибо» тает. Воздух пахнет листьями и осенним жаром. Земля и трава не остыли еще. Лето повсюду. Гуляет, путается меж стеблями высохшей пижмы.
Останавливаюсь в Доме творчества на улице Кардовского. Отсюда начинается мой Переславль. Здесь странное место, понятное лишь на первый взгляд. Здесь всегда неестественно тихо. Никого не видно и не слышно, а если и доносятся голоса, кажется, доносятся из другого пространства.
Сегодня тишиной наслаждаться некогда. Едва заселившись в гостиницу, побросав вещи («оголтелая» сказал бы папа), бегу искать такси. Надо добраться до Елизарово, чтобы не откладывать дальнюю поездку на последний момент.
Своё сумасшествие нужно выгуливать. Холить, лелеять, баловать. Ты – мое сумасшествие. Ты, умерший пять веков назад и случайно выхваченный тем, что разумнее всего называть «поэтическим слухом», чтобы не пугать обычных людей.
На подъезде к Елизарово дорога изогнулась, после чего сахаристо-белый храм взмыл в небо, точно выпущенная из лука стрела. Ох, я не была к этому готова. Подкинуло, точно на качелях. Сердце, наоборот, ухнуло к пяткам. Потом – наверх, стукнуло в горле.
По обеим сторонам дороги – пламя. Золото осыпается. Леса вдоль дорог похожи на птичье оперение. Птица взмывает в небо, растворяется, рассыпавшись на золотые искры, слепит! Огненная русская Жар-птица! Именно в этот момент, она рождается во мне, чтобы через мгновение отделиться, стать образом, связанным с Фёдором, и, сделав круг, опуститься мне на руку. Гордая до невероятного, но решившая почему-то, что со мной ей хорошо. И такая ласковая, при всей своей птичьей важности… Ты моя русская опричная Жар-птица!
Ели-зарово, Ели зарево… зарево. Огонь. Огонь на кончике языка, когда произносишь. Елизарово на самом деле полыхает. Кажется, что одна за другой начинают сгорать в этом огне все скоморошьи машкеры, прикрывающие прекрасное лицо настоящего Фёдора Алексеевича Басманова.
Переславская земля смеётся. Начинает вытаскивать внезапные подарки.
– Храм-то закрыт! – предупреждает меня таксист, когда мы подъехали.
– Спасибо, я знаю.
Осенняя тишина потрескивает сухостью, соломой и гравием. Пахнет дымом. Село живёт обычной жизнью. Дома с красивыми наличниками разместились по обочинам. Сколько поколений сменилось? Сосчитать сложно. А небо всё то же, что и пять столетий назад. Да и земля та же. Кровь в неё ушла, кости истлели, слёзы упали, впитались. Всё это там, на глубине осталось. Сердце стучит тяжело, но я медленно иду к храму, с трудом осознавая и с трудом принимая, что именно по этой земле ступал Алексей Данилович, когда пришёл смотреть, как закладывают первый камень его храма… Храма, в который он мечтал водить внуков на утреннюю службу. Рана незаживающая! Боль от несбыточного и несбывшегося – не моя. А чувствую я. Проживаю я. За двоих проживаю.
Храм распускается передо мной, словно белый крин. Солнце стекает с кокошников на последние осенние георгины и флоксы, будто небесный кравчий решил кувшин до дна опрокинуть. Богородица Сентябрина! Богородица Сентябрина – наша с тобой, только наша с тобой Богородица. Живая Вселенная. Щемяще-белое всё вкруг, такое нежное и хрупкое!
Со стены храма на меня смотрит лик святого Никиты Гот (ф) ского. У подножия лежит букет свежих астр. Над звонницей кружат чёрные птицы. Когда опускаются на кровлю, в абсолютной тишине слышен металлический цокот, скрежет. Бряцают листы под коготками. Птицы на колокольнях – это что-то о печали, о расставании и обреченности. Птицы на колокольнях – туманная ушедшая Русь. Любимая и любящая, но беспощадная. Самая русская картина – птицы над колокольней…
Дергаю двери. Конечно, храм закрыт. Пройдёт год, и я буду сжимать в руке ключи, вручённые мне в Воскресной школе, что находится через дорогу. Но пока я об этом не знаю. Как и о существовании Воскресной школы в принципе.
Мне удается чуть раздвинуть двери и просунуть свой любопытный нос внутрь. Звякает цепь и наступает беспокойная тишина. Отсюда вижу несколько икон на импровизированном алтаре и высохший букет астр у лика Христа. Солнце свободолюбиво гуляет по полу, засыпанному строительной пылью. Видно, что реставрационные работы продвигаются, но медленно.
Рядом будто кто-то ходит. Вздрагиваю. Сейчас придут рабочие и прогонят, ибо не надо лазить «где не надо». Оборачиваюсь, но никого не вижу. Никого из живых.
А, ну добро! От души отлегло. Засыпай меня золотом. Оглуши меня тишиной. Хулигань всласть, если хочешь. Я сама тебя с собой позвала.
Присаживаюсь на ступеньки и смотрю вокруг. Мне кажется, я парю над Елизарово и Переславлем, с остатками осени, с листьями, с белыми хлопьями облаков. Плыву быстрее их, не видя пока тех домов, которые полюблю. Домов, которые буду ненавидеть. Я не вижу и не знаю, собственного дома, с окном, обвитым гирляндами.
Тлеет закат у подножия Александровой горы, ложится на заговоренную полынь слезливым алым светом. Собирает Марина Арнольдовна в своем саду гранатовую рябину, носится рядом Гоша. Дом её мурлычет, фырчит и гавкает на все лады, живой дом. А вон, напротив меня, дом теплой и добродушной Татьяны Гусевой, что выращивает сказочно красивые ирисы. Пройдет несколько лет, и я буду рассказывать о Фёдоре в библиотеке Рязанцево, где она работает и создает уютное пространство для людей. Об этом я тоже пока не знаю. Через дорогу, приземистый дом Марины. Она печет на подворье Воскресной школы, настоящий (не магазинный!) хлеб.
– Плачешь?
– Плачу, Фёдор, плачу. Но это от счастья. Ничего страшного.
– Рюмы вы, девки. Ничего не поменялось. Беда – плачете, счастье – плачете.
– Не умничай. Доумничался уже в своё время. Всё одно к девке за помощью пришёл.
Фыркает, вздыхает.
Солнце становится тяжёлым, сбивает с бархоток лепестки. В воздухе появляется горьковатый запах. На абсолютно голубом (словно озеро) небе туда-сюда елозят клочки разодранной белой ваты. Между кокошниками покачиваются молодые тоненькие березки. Силу свою показывают. Если слушать долго, можно услышать, как корешки разрушают камень.
Елизарово, Переславль, Полоцк, Рязань, Калуга, Великий Новгород. Рядом со мной сидит юноша, горит золотом охабень. Глаза серые. Отсвет стальной, беспощадный. Так только лезвие лучшего кинжала сверкать может. Глаза цвета битв, на которые он не попал. Когда хитрость задумывает или сердится, начинают отливать озерной голубизной. Плещеевское просыпается, непостижимое. Русый локон, как и цветы на солнце – прозрачен, золотом вспыхивает.
В глазах смеющихся белые колоколенки отражаются. Руки привычно прячет за спину. Чтобы меня, нервную «рюму», ещё больше не пугать. А я всё о нём знаю. Руки-то в кровушке по локоток, кровушка государевых изменников. А может и не только… Что ж, как мой муж говорит, разговор с государственными изменниками, должен быть коротким. Сами виноваты.
Улыбкой своей к месту пригвоздит, рассудка лишит, но и напугать может. Вот только отцовской крови на этих руках нет. Отца до одури любит, за что же грех-то этот на тебя повесили, сокол? Уж, не за любовь ли эту? Те, кому любви не досталось, любовь других ненавидит. Про женщину и мужчину скажут «блудники»! Про государя с вассалом скажут «содомиты». Про отца и сына с три короба наплетут и «художественным вымыслом» эту пакость назовут!
Утешит ли тебя Фёдор Алексеевич, если скажу, что пять веков спустя, ничего у нас не поменялось? Нет, я не жалуюсь. Как есть говорю. Ты моими делами голову свою не забивай. Она и так у тебя бедовая.
Солнце в самом зените. Как будто хочет и меня и бархотки спалить, сжечь прямо на месте.
А мне хочется закричать во всё горло. Приваливаюсь к холодной белой стене. Эта земля никогда не являла миру отцеубийц. Никогда.
– Поклянись, что мне веришь?!
– Дурак! – я чуть не плачу от обиды. Пространство истончается, солнце сжигает тонкую границу между мирами.
Невероятные сила и чистота тебе дадены русским древним озером. Ломаный, переломанный, перекрученный. Себе на уме! Сколько же в тебе пропало! Озёрный, ты мой. С одного озера начинался, в другое ушёл. Порочный по-русски, разбойник, опричник, боярин, яхонт-князь3. Всё в тебе есть.
Белая храмовая стрела, взмывшая ввысь, она в меня впилась. В самое сердце, куда-то под ребро. Впилась с тихим протяжным «Феооо…». Уже никто не вытащит.
Встречаю закат на городских валах, что полукольцом обвивают город. Переславль – живой. Вечером я слышу шаги за спиной, но обернувшись несколько раз, никого не обнаруживаю. Мне не страшно. Я знаю, что это город так со мной разговаривает. Шуткует, забавляется. Юмор у города своеобычный. С огоньком, с задором. Молодецкий юмор, безудержный. Юмор молодого боярина.
В Переславле-Залесском всё не то, чем кажется. Я пойму это сейчас, и понимание останется со мной навсегда. Сколько раз я сюда еще приеду! И каждый раз Переславль будет упорно мне доказывать, что «здесь всё не то, чем, кажется». Даже я сама. Город удержит меня своей молодецкой ухарской силой. Точно человек, которому я много веков назад дала сильнейшую клятву.
Поднимаюсь повыше, чтобы увидеть, как последняя красная полоса клюквенного заката чиркнула по небу и подожгла золотой купол горделивого Никольского собора. Зазвонили колокола к вечерней службе. Собственной судьбе покоряясь (или откликаюсь на чей-то шёпот?), иду на службу в Свято-Троицкий Данилов монастырь. Данилов – самый мрачный, самый мистичный и самый тяжелый по энергии. Тёмные липовые аллеи и серые купола, поросшие мхом. Но именно Данилов станет любимым. Любимцем. Именно Данилов ощущается таковым уже сейчас. При первой встречи. Именно здесь узелки завяжутся. Или… уже завязались? Или завязались несколько веков назад?
После двух женских монастырей, которые успела посетить днём, мужской. Тяжёлая энергия. Плотная. Данилов тронул. Зацепил. То ли по-доброму, то ли коготком остреньким по живому. Монастыри в Переславле тоже не то, чем кажутся. Пару лет спустя, я прочувствую это на собственной шкуре.
Успеваю лишь к окончанию службы, когда последнюю молитву дочитывают. Догорают две свечи у лика Спасителя. Нет никого.
И я одна. Свечные огарки едва сдерживают темноту. Из углов Троицкого храма подступает живой русский сумрак. Он пульсирует, дышит, наваливается на согбенные фигуры читающих, на иконы.
Я замираю, ноги прирастают к полу. Чудится, что из этого дрожащего русского сумрака сейчас кто-то выйдет навстречу. Я вижу не глазами, но чем-то внутри себя. Скрещенные на груди руки и бледные, бескровные губы, тронутые синевой и едва заметной улыбкой. Завтра этот кто-то будет отпет. Или нет? Как прикажет знаменитый крестник основателя монастыря. Слово государево – закон.
Я зажмуриваюсь и пропускаю этот живой сумрак через себя. Может зря? После этого он навсегда останется у меня под ребром. Как и белая звонница, как и огненное Елизарово. Кисельный, ядовидо-спасительный, наполняющий сопричастностью с другими временами и общностью с чужими людьми.
Свечи тем временем догорают окончательно, а голоса смолкают. Во тьму погружается Троицкий собор, а вместе с ним и весь город. Рубеж пройден. Наступает ночь. Мне нужно отправляться или к себе в гостиницу или в центр. Переславль, ухает, точно ночная птица, заблудившаяся в озерном тумане.
Осенью ночь приходит рано. А так, время детское. Девяти часов еще нет. Решаю гулять дальше, но перед этим немного отдохнуть, перекусить и одеться теплее. В гостинице, открыв книгу, купленную в лавке Данилова, узнаю, что этот монастырь, единственный в городе, построен на скудельнице, на Божедомье. Но не божедомские нищие и безымянные путники, погребенные милосердным Даниилом, крестным Иоанна, бродят по углам, улыбаются из сумрака печально. Не они. Они давно нашли покой.
Над Всехсвятским храмом (Данилова монастыря) застыла луна. Она жёлтая, сырная, но испачкана красным. Жмурюсь. Нет, не показалось. Плавает луна в алой дымке. Насаживается на крест, крутится. Хочется снова подойти к монастырю, тянет безудержно увидеть, как трава наклоняется от ветра возле самых Святых ворот. А рядом… рядом Сокольская слобода, откуда хищные птицы взмывали в небо.
К вечеру первого дня постепенно понимаю, где я оказалась. Понимаю, что думать и анализировать не надо. Нет здесь времени, нет здесь единого пространства. Яркие современные вывески на старых домах – это пыль, которую способен сдуть даже сильный ветер. Да и сам город всего лишь обманка. Декорация для туристов. Если его взять и перевернуть, как детскую игрушку, там, внизу, окажется ещё один город. Настоящий. Его видят не все. Но кто увидел – останется в Переславле навсегда.
Я брожу по центру и слушаю шаги за своей спиной. Переславль продолжает осыпать меня подарками. Вот тебе звёздное небо в конце сентября! Звёзд столько, что, кажется, сейчас начнут падать исключительно из-за тесноты, капризно сталкивая друг друга.
– Бери ещё! Помнишь, как я плескал тебе водой на ноги и мирил вас с папкой? Помнишь? Я помню. А помнишь другое?
– Нет, замолчи – мне кажется, я знаю, что Город хочет рассказать. Но я не готова.
– Давай лучше про папку. Да. Папка. И я, девочка в красном платье. Десять лет назад это было…
– А как тебя звали, ты помнишь? Ладно, не мучайся. Не время. Бери мои тайны, бери мои подарки. Просто так, ничего взамен не потребую.
Ночь. А я сижу на ступеньках церкви митрополита Петра. Зелёные чешуйчатые купола Владимирского собора стали черными пиками и проткнули небо. Из этой раны посыпались молочные звёзды, посеребрили изображение Богородицы на фасаде собора.
День второй
Выхожу из гостиницы до рассвета. Осеннее утро сонное и ленивое. Просыпается медленно. Воздух ещё прохладный, но видно, что день будет хороший, разгуляется. По дороге к Плещееву озеру, заворачиваю снова посмотреть на Данилов монастырь. Ранним утром он такой же таинственный. Стоит на самом краю времени. Пограничный. Между этим миром и тем. Рассвет размазал над воротами розовато-серые, золотистые полосы.
Прохожу через весь город пешком. Плещеево озеро находится за Никитским мужским монастырём. Приближаюсь, когда ночной туман окончательно рассеивается. Вот оно! Почему-то хочется прошептать «родное»…Плещеево озеро.
После поворота багряно-оранжевый лесной массив отступает, и я вижу голубой глаз, идеальной формы кабошон. Цвет настолько яркий, что я зажмуриваюсь, глаза слезятся!
Это озеро помнит всех. Озеро или небо? Кто из них главнее? И кто на кого похож? Я стою и плачу. Чувствую уже сейчас, что через какое-то время захочу остаться здесь навсегда. Не знаю, как это будет. Но это будет. Знаю. Меня больше никуда не отпустят. Я выросла в Москве. Я невероятно люблю сильный, отважный, честный… родной Донбасс. Я безмерно уважаю загадочные Кержачи, которые обрету через пару лет после написания этих строк. Но остаться я захочу именно здесь.
– Смерти нет. Есть только Ты и Плещеево озеро.
Это не образ и не красивость. Это знание, поднявшееся из моей собственной глубины.
Утренний звон летает над водой, переплетается с волнами. Я сижу на берегу и слушаю озеро, закрыв глаза. От озера исходит сила. Вокруг озера – вечность. Сила добрая, как и город. Не разорвёт. Если слабый – просто отступит, не будет мучить. Если сильный, помучает для пользы. Чтобы больше знал, больше умел, большему научился. Ты выдержишь, хоть голова будет кружиться.
Озеро нашёптывает «здесь нет мёртвых, здесь нет смерти». Плещеево помнит меня и моего папу. Как мы подъехали к берегу на зеленой машине десять лет назад. Помнит и юношу, что купал здесь своего коня пять веков назад. У Переславля его лицо (или наоборот?). Город словно дерзкий, нахальный, молодой боярин. Улыбчивый, румяный, нарядный. Гремит браслетами, сверкает перстнями. Гибкий, стройный, переливчатый. Кудри русые разлетаются, серьга жемчужная в ухе… Зубки острые, губы поцелуйные. Руки в боки, носок сапога сафьянового выставил. Вот он я! Люби, любуйся, купайся в этой любви. Платье белое золотом расшито.
Это всё наносное. Есть и тёмная силушка, потаённая. Зачем такую всем показывать? Когда надо, своё возьмёт. Если надо, возьмёт силой. Захочет, милостиво одарит. Захочет, поломает, сомнёт. Коль полюбит, ещё тяжелее придётся, нежели нелюбовью бы возгорелся. Ибо проверять тебя станет. Не балуешься ли? Сам любит с другими шутить, баловаться. А с ним… с ним не смоги! И не отпустит больше никогда.
Глаза – озёра. Разные. Один смешливый, синий, языческий. Русь, кострами объятая. Гора Александрова, Велесова отражается. Радостный, счастливый.
Второй – серый. Точь купола Данилова проступают. Мученичество православное. Глаз полный слёз Богородицы. Смерть в монастырских тюрьмах, холод подвалов, запах плесени и предательства.