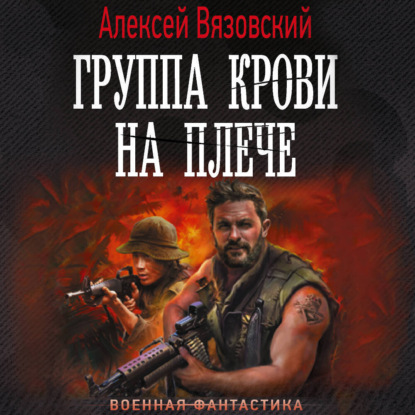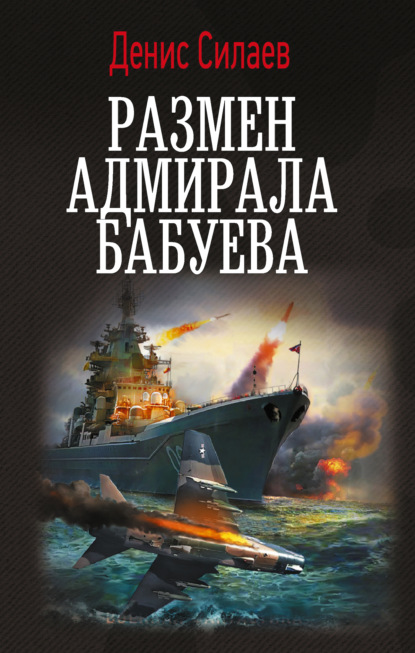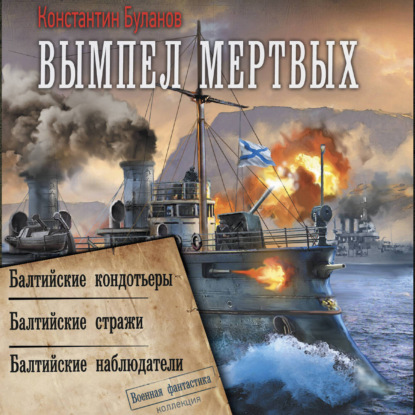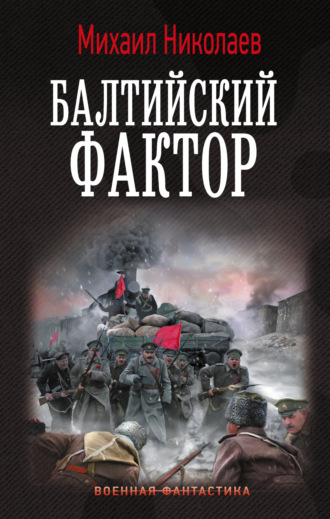
Полная версия
Балтийский фактор
Первым с пространным докладом о деятельности Петроградского совета выступил Лев Давидович Троцкий. Кучерявый худосочный субъект с ярко выраженной семитской внешностью. Я много слышал об этом человеке, но увидел тогда впервые. И он мне активно не понравился. Пел как соловей, говорил правильные слова о том, что Временное правительство собирается сдать Петроград и переехать в Москву, а мы не должны с этим соглашаться и обязаны взять на себя оборону города и страны в целом, глазами сверкал, но было за этим слишком много пафоса и почти отсутствовала конкретика. Только общие фразы. Потом, многократно упомянув ответственность и долг, перешел к конкретике: «Лучшей обороной страны будет немедленное мирное предложение к народам всего мира через голову их империалистических правительств». Тут мне даже смешно стало – конечно, услышав такое предложение, все народы сразу поскидывают свои правительства и начнут с нами дружить. Нет, такому болтуну нельзя доверять судьбу страны.
Вторым от имени Балтийского флота выступил председатель Центробалта Дыбенко – мощный чернобородый матрос, который уже через две недели будет назначен народным комиссаром по морским делам. Этот уверено рубил правду-матку о том, что Балтийский флот, несмотря на исключительно враждебное отношение к нему Временного правительства, героически сражается с немецким флотом, превышающим его в пятнадцать раз по численности. Дыбенко вкратце, но с цифрами рассказал о действиях Балтийского флота в Моонзундском сражении, поведал о том, что и в дальнейшем матросы будут умирать, но не запятнают себя предательством по отношению к революции.
Потом Дыбенко привел пример действий Временного правительства, рассказав, что для флота у него нет хлеба, но оно попыталось отправить в Швецию семьдесят вагонов с продовольствием, среди которых было сорок вагонов с маслом, которое флот тоже не получает. Из этого Дыбенко сделал заключение, что Временное правительство хочет уморить флот голодом. Далее он поведал, что недавно Временное правительство прислало на усмирение флота две дивизии казаков, но те быстро стали большевиками и левыми социалистами-революционерами.
В этом месте зал грохнул аплодисментами. Дыбенко закончил свое выступление призывом к съезду послать флоту приветствие и зачитал его текст. Съезд текст приветствия утвердил и почтил погибших матросов и солдат вставанием.
Третьим со словами о безусловной поддержке Петроградского совета выступил представитель Московского совета. Потом от имени Финляндского областного комитета толкнул речь Антонов-Овсеенко. Он доложил съезду, что ни один приказ Временного правительства не исполняется на территории Великого княжества Финляндского, если он не подписан комиссаром областного комитета. При этом комитет контролирует все органы местной власти, наблюдает за контрразведкой и регулирует местную жизнь. В качестве вывода Владимир Анатольевич выдал: «Комитет во всех отношениях стал органом революционной власти. И ему все труднее становится удерживать массы от выступления, так как сейчас ребром встал вопрос о власти».
После перерыва, во время которого я улучил момент накоротке переговорить с Крыленко, было еще несколько выступлений. В частности, депутат от Новгородского полка (Румынский фронт) озвучил требование солдат о немедленном начале мирных переговоров и переходе всей власти в руки революционной демократии.
Мой прапорщик Цибульский долго не разглагольствовал, также озвучив требование частей гарнизона Таммерфорса о скорейшем заключении мира, и выразил недоверие Временному правительству.
Потом было очень эмоциональное выступление депутата Молчанова из первого Сибирского армейского корпуса. Я застенографировал его и считаю необходимым привести целиком. «Все солдаты и все части нашего корпуса хотят перехода власти к Советам. Мы не знаем у себя ни большевистской, ни меньшевистской агитации. Жизнь нас многому научила. Мы теперь сами твердо убедились в том, что коалиционное правительство затянуло войну. Нам говорят, что война нужна для страны, для наших отцов и матерей, оставшихся в тылу. Неужели нашим матерям и отцам нужно было пролить такое море крови их родных детей ради собственного благополучия? А где же это благополучие наших отцов и матерей? Неужели в том голоде, в той нищете, в тех материнских слезах, которые война принесла в изобилии трудовому люду, рабочему и крестьянам? Знайте, что на фронте не проходит часа и минуты, чтобы солдаты не говорили о мире!» Очень сильно это было сказано.
После исчерпания регламента Крыленко подвел краткий итог первого дня работы съезда, отметив, что все выступающие, за исключением новгородцев, высказались солидарно: вся власть Советам, долой существующее Временное правительство!
* * *Из Смольного я пешком направился на квартиру, в которой моя семья проживала в доме 15 по Греческому проспекту, чтобы впервые за долгое время увидеться с женой и тремя своими детьми. По пути меня трижды останавливали патрули, но услышав, что иду домой из Смольного, сразу же пропускали. Даже документы ни разу не проверили.
Моя первая жена умерла, когда я учился в академии. От нее осталось двое детей: Володя, которому в этом году исполнилось одиннадцать лет, и девятилетняя Нина. Сейчас их воспитывала моя вторая жена – Нина Павловна Свечникова (в девичестве Иванова), четыре года назад родившая мне сына Колю. Переезжать в Чухонию, как она называла Великое княжество Финляндское, Нина, будучи коренной петербурженкой, отказалась категорически. Здесь у нее были подруги, любимая работа, гимназия, в которую ходили старшие дети. А мне часто ездить в Петроград было совершенно не с руки. Поэтому уже почти год мы виделись не чаще одного раза в несколько месяцев.
В том году в Петрограде было голодно. Деньги и продукты я изредка передавал Нине с оказиями, когда кто-то из моих подчиненных ездил в Петроград в служебные командировки. В этот раз я привез спички, папиросы и небольшой мешочек колотого сахара. Сахар – детям, а все остальное, особенно спички, можно было выгодно обменять на продукты.
* * *Второй день съезда мне почти не запомнился. Сначала мутили воду меньшевики, тщетно пытаясь доказать неправомочность съезда, потом обсуждали текущий момент и слушали доклад Антонова-Овсеенко о военно-политическом положении.
На третий день я познакомился с Карлом Андреевичем Петерсоном – делегатом от Исполнительного комитета объединенного совета всех латышских полков, пообещавшим съезду поддержку от латышских стрелков в количестве сорока тысяч штыков. Карл Андреевич был старше меня на четыре года, в партии состоял с 1898-го. Спустя двенадцать дней после этой нашей встречи он был избран членом ВЦИК, а потом вошел в состав первой коллегии ВЧК.
Съезд обсудил земельный вопрос. Было принято решение обратиться к крестьянству с воззванием о том, что правильный путь не в погромах, а в том, чтобы организоваться для борьбы за землю и волю в союз с рабочими.
Потом перешли к основному вопросу – о созыве Всероссийского съезда Советов. С докладом по этому вопросу выступил Михаил Михайлович Лашевич, член ВЦИК, вступивший в РСДРП в 1901 году. Спустя 11 дней он создал в Петропавловской крепости запасной штаб по руководству восстанием. В ночь на 25 октября руководил отрядом солдат и матросов при захвате почты, телеграфа и госбанка.
Постановили: созвать Всероссийский съезд Советов 20 октября, а для организации этого избрать Северный областной исполнительный комитет. В его состав вошли Антонов-Овсеенко, Дыбенко, Крыленко и еще 14 человек.
ЦИК не утвердил это постановление, подменив его собственным и отодвинув дату открытия II Всероссийского съезда Советов рабочих и крестьянских депутатов на пять дней.
Глава 3. Революция в России (За четыре месяца до дня «Д»)
Генерального штаба полковник Михаил Степанович Свечников, выборный начальник 106-й дивизииЛенин настаивал на скорейшем проведении вооруженного восстания. Троцкий, возглавлявший Петросовет, осторожничал и «тянул резину».
Поздним вечером 24 октября Ленин, не выдержав ожидания, сам пришел в Смольный и сразу же развил бурную деятельность. Следующим утром Керенский покинул Зимний дворец и на автомобиле направился в Псков, где располагался штаб Северного фронта.
Около полуночи руководитель секретариата ЦК РСДРП Яков Михайлович Свердлов отправил телеграмму: «Гельсингфорс. Смилга. Высылай устав. Свердлов». Смилга ознакомил с ней Дыбенко и Антонова-Овсеенко, известил меня телеграммой и дал команду железнодорожникам.
Всю ночь с 24 на 25 октября матросы грузились в эшелоны. С первым из них в Петроград уехал Антонов-Овсеенко. Всего из Гельсингфорса было отправлено три эшелона, которые перевезли около четырех с половиной тысяч вооруженных матросов. Почти одновременно с этим Центробалт отправил в Петроград четыре эскадренных миноносца: «Забияка», «Самсон», «Меткий» и «Деятельный». Отрядом миноносцев руководил Дыбенко. Немногим позже в Петроград под командованием полковника Потапова был направлен 428-й пехотный Лодейнопольский полк 107-й дивизии, расквартированный в Свеаборге.
В 12 часов 50 минут 25 октября я отправил Смилге в Областной комитет телеграмму: «Вся 106-я пехотная дивизия во главе с командным составом готова во всякое время выступить в защиту Советов и стоять на страже демократии. Начдив 106-й полковник Свечников. Председатель Дивизионного комитета Пискунов».
Ответная телеграмма содержала распоряжение подготовить к отправке в Петроград отряд в двести штыков с пулеметами. Остальным находиться в готовности.
Я оперативно принял решение о направлении в Петроград двух рот 422-го Колпинского полка с четырьмя пулеметами. Командовать этим отрядом я поставил выборного помощника командира 422-го пехотного полка подпоручика Сергея Васильевича Здоровцева (члена РСДРП(б) с 1909 г.).
Утром и в первой половине дня 25 октября отрядами Красной гвардии и солдат Петроградского гарнизона были захвачены телеграф, почта, вокзалы, банки, главная электростанция, взяты под охрану мосты. Бескровно. Фактически это был не захват, а скорее смена караулов. Во второй половине дня (примерно в семнадцать часов) был оцеплен Зимний дворец. К штурму не приступали – ждали прибытия основных сил из Гельсингфорса.
Вечером, примерно в половине седьмого, в Зимний дворец был доставлен ультиматум Антонова-Овсеенко с требованием о сдаче дворца. В девять вечера защитники дворца отправили в эфир паническую радиограмму, на которую так и не последовало ответа.
Сорок минут спустя раздался холостой выстрел бакового орудия «Авроры». После этого начался первый (неудачный) штурм, более напоминавший обстрел фасадов дворца ружейно-пулеметным огнем. Потом было еще несколько попыток прорыва к дворцу, которые были отбиты юнкерами школы прапорщиков.
В двадцать три часа начался обстрел Зимнего дворца орудиями Петропавловской крепости. Стреляли поверх крыши, лишь незначительно повредив карниз. Вскоре после этого матросы начали просачиваться во дворец через черный ход со стороны набережной. А через парадный вход прошла делегация парламентеров с новым ультиматумом, вслед за которой устремилась толпа вооруженных матросов и солдат во главе с Антоновым-Овсеенко.
Арест Временного правительства был произведен в два часа пополуночи.
Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и крестьянских депутатов начал свою работу 25 октября в 22 часа 45 минут. В три часа ночи Каменев объявил об аресте Временного правительства. После этого съезд принял обращение к рабочим, солдатам и крестьянам.
На втором заседании, начавшемся в 9 часов вечера 26 октября, Ленин зачитал декреты о мире и о земле, предложил распустить старый состав ВЦИК и сформировать рабоче-крестьянское правительство – Совет народных комиссаров.
* * *Первый этап нашего плана был выполнен. Но на этом ничего не закончилось. С запада на Петроград наступали войска, собранные Керенским для того, чтобы задушить восстание.
Вечером 26 октября казачьи части 3-го конного корпуса генерала Краснова загрузились в Пскове в вагоны и покатили на Петроград. 27 октября они высадились в Гатчине, где соединились с верными Временному правительству солдатами, прибывшими из Новгорода. До Петрограда оставалось 40 километров.
В ночь с 27 на 28 октября Ленин связался с Гельсингфорсом по телеграфу. Для защиты Петрограда нужно было прислать надежные в революционном отношении войска. Я направил в Петроград трехбатальонный отряд численностью в 1500 штыков, сформированный из подразделений 422-го Колпинского полка при 34 пулеметах. Возглавил отряд выборный заместитель командира полка капитан Александр Федорович Коппе.
Председатель Центробалта Николай Федорович Измайлов дополнительно к ранее отправленным в Петроград четырем эскадренным миноносцам направил туда крейсер «Олег» и эскадренный миноносец «Победитель».
28 октября войска генерала Краснова заняли Царское Село. Здесь к ним присоединились девятьсот юнкеров, несколько артиллерийских батарей (около двадцати орудий) и бронепоезд. К этому моменту отряд генерала Краснова вырос до пяти тысяч штыков и сабель.
29 октября отряд капитана Коппе добрался до Пулковских высот. По соседству с ним расположились 2-й Царскосельский резервный полк, которым командовал полковник Павел Борисович Вальден, и сводный отряд матросов Балтфлота под командованием Павла Ефимовича Дыбенко. В Неву вошли и встали напротив села Рыбацкое эскадренные миноносцы. Общее руководство осуществляли полковник Михаил Артемович Муравьев и Владимир Анатольевич Антонов-Овсеенко.
Утром 30 октября войска генерала Краснова пошли в наступление в районе Пулкова. Наши выдержали их натиск и сами перешли в контратаку. Сначала они несли большие потери (свыше 400 человек), вызванные огнем колесной артиллерии и бронепоезда. Но потом к делу подключились стотридцатимиллиметровые орудия бронепалубного крейсера «Олег», который вел огонь из акватории Финского залива, и быстро объяснили казакам, кто здесь главный. Когда матросы начали обходить казаков с флангов, те отступили в Гатчину.
31 октября на переговорах казаки согласились выдать Керенского, но тот в очередной раз сбежал. Опять на автомобиле. Сначала в Псков, где передал свои полномочия главнокомандующему Духонину, потом на Дон к Каледину. Но и там не нашел поддержки.
1 ноября революционные войска заняли Гатчину. Генерал Краснов сдался, но вскоре был отпущен под честное слово офицера, пообещав, что никогда больше не будет воевать против Советской власти. И, разумеется, не сдержал его. В мае 1918 года он был избран атаманом Донского казачества, после чего развернул борьбу с большевиками, встав во главе Донской армии.
Отправив под Петроград почти весь личный состав 422-го Колпинского полка, составлявшего основную часть гарнизона Таммерфорса, я был вынужден перевезти туда из Юмистаро один из батальонов 423-го Лужского полка. С четырьмя пулеметами. Потом две роты этого же полка с двумя пулеметами отправил в Выборг для несения караульной службы.
Второго ноября два батальона 422-го полка вернулись обратно. Третий (с 12 пулеметами) остался в Петрограде и вернулся в Таммерфорс только десятого ноября.
Третьего ноября я приехал в Петроград для участия в заседании коллегии наркомата по военным делам. Одним из вопросов, обсуждаемых на коллегии, был вопрос о назначении нового комиссара наркомата. Антонов-Овсеенко предложил мою кандидатуру, но я отказался в пользу Михаила Дмитриевича Бонч-Бруевича, по учебнику «Тактики» которого я учился в Императорской академии Генерального штаба. Свое решение я мотивировал тем, что тут нужен не полковник Генерального штаба, командующий дивизией, а генерал Генерального штаба, имеющий опыт командования фронтом. Мое предложение было принято лишь частично: Михаил Дмитриевич не возглавил наркомат по военным делам, но вошел в его руководящий состав и стал начальником штаба Верховного главнокомандующего.
В Петрограде я пробыл три дня. Смог дважды переночевать дома и даже накоротке пообщаться с Владимиром Ильичом. Ленин познакомил меня с Иосифом Виссарионовичем Сталиным, который в первом составе Совета народных комиссаров занял пост наркома по делам национальностей. Иосиф Виссарионович мне понравился. Этот грузинский самородок не заканчивал университетов и академий, но путем интенсивного самообразования умудрился достичь нашего с Владимиром Ильичом уровня. А еще он умел не просто слушать, а сразу усваивать и классифицировать полученную информацию, раскладывая ее в своей памяти «по полочкам». Тогда мы втроем обсудили не только то, что было связано с реорганизацией армии, но и будущее Великого княжества Финляндского.
В частности, проработали вопрос о том, что вооруженное восстание надо будет провести сразу же вслед за признанием независимости Финляндии, после чего необходимо заключить договор о дружбе и взаимопомощи между двумя социалистическими республиками. Но сделать все надо так, чтобы это не выглядело со стороны (да и не только со стороны) как вмешательство России во внутренние дела соседнего государства. Финны самостоятельно должны подготовить и провести революцию в своей стране. И в дальнейшем сами хозяйствовать таким образом, чтобы не ущемлять российские интересы.
Мне предложили не покидать Финляндию после вывода из нее российских войск, а остаться там в качестве военного советника. С сохранением теперешнего должностного оклада, расчета выслуги и стажа. До тех пор, пока в этом не пропадет необходимость или я не понадоблюсь здесь. Не одному, разумеется, а заранее подобрав себе возможно большее количество добровольных помощников.
* * *Окрыленный этой беседой, я, вернувшись в Таммерфорс, написал большую программную статью «Реорганизация армии».
Начав с того, что необходимость в боеспособной армии у страны сохраняется и после передачи власти в руки трудящихся, более того, она даже возрастает, так как вполне вероятны не только интервенция со стороны буржуазных государств, которые спят и видят, как бы заняться грабежом и под шумок отобрать себе часть российской территории, но и выступления внутренних контрреволюционных сил, я перешел к конкретике.
Что новому правительству необходимо создать армию, которая не была бы послушным оружием в руках врагов народа, а по своему характеру и укладу близко стояла к рабочему и крестьянскому классам, где революционная дисциплина должна быть основана не на палочной системе, и войска дрались и умирали за свободу без всякого принуждения. Для этого в первую очередь надо отказаться от обращения «господин», заменив его на «товарищ».
Для постоянной связи военных кадров с народом подходила, по моему мнению, территориальная система комплектования, как в казачьих войсках. Я предложил установить двухлетний срок службы, выработав при этом меры для поощрения служащих сверхсрочно.
Отдельно остановился на том, что положение и роль начальника после революции значительно изменились. Раньше судьба солдата в политическом, административном и хозяйственном отношении находилась в руках начальника, теперь эти функции перешли в руки солдатских политических и хозяйственных организаций, и судьба солдата осталась в руках начальника только в боевом отношении. От начальника теперь требуется не только верность революции в политическом отношении, но и то, чтобы он был мастером своего дела. Поэтому выбирать солдат на начальственные должности можно только до ротного, в крайнем случае батальонного звена. Для кандидатов на более высокие посты необходим ценз специальных знаний. Но солдатская масса не всегда может проверить знания и подготовку своих начальников и офицеров, а потому она должна обратиться за помощью к более компетентным людям. Она не должна поддаваться демагогии и выбирать тех, кто подлаживаются под массу и обещают ей горы богатства. Поэтому аттестовать начальников нужно совместно комитетам и командованию.
Свою статью я завершил следующими словами: «Товарищей солдат я очень просил бы не создавать вражды между собой и офицерами, помня всегда, что многие шли вместе для борьбы за завоеванные свободы, много еще придется воспользоваться офицерскими силами для дальнейшей борьбы».
Эта статья была опубликована в «Известиях Гельсингфорсского Совета депутатов армии, флота и рабочих» в первой половине декабря 1917 года.
А седьмого декабря я произвел практическую проверку некоторых положений этой статьи в процессе проведения выборов командного состава на дивизионном съезде депутатов всех подразделений и учреждений дивизии (134 депутата с правом решающего голоса). Съезд единогласно утвердил меня в должности командира 106-й дивизии, а потом прислушивался к моим аттестациям при выборах всего остального начальствующего состава. Теперь я с полным правом мог себя называть дважды выборным начдивом.
* * *18 декабря 1917 г. СНК издал декрет о государственной независимости Финляндии. Так совпало, что именно в этот день в Гельсингфорс приехал из Петрограда барон Маннергейм.
22 декабря декрет о независимости Финляндии был ратифицирован ВЦИК. Русские войска пока еще оставались на территории Финляндской Республики, но их скорый вывод был уже предопределен.
После этого вывода финская буржуазия планировала создание национальных войск путем введения воинской повинности. Реализации этих планов противостояла финская социал-демократическая партия. Эта борьба началась еще в мае, когда обе стороны занялись подпольным формированием Белой и Красной гвардии.
Одним из центров формирования Белой гвардии было имение Саксанниеми вблизи города Борго. В начале декабря Сенат открыл кредит в восемьсот тысяч марок для обучения там конной милиции. Налаживаемая мной служба разведки и контрразведки к этому времени уже работала, поэтому я своевременно узнал о данном факте, и Красная гвардия разогнала белогвардейцев. К сожалению, это оказалось полумерой.
Центром формирования Красной гвардии стал Таммерфорс. Общее руководство подготовкой рабочих взял в свои руки местный комитет социал-демократической партии. В организационном плане ему оказывали поддержку Ээро Эрович Хаапалайнен, член РСДРП с 1901 года, один из создателей Красной гвардии в Гельсингфорсе в 1905 году, и Алекси Аалтонен (псевдоним Али-Баба), бывший поручик русской армии, который в октябре 1917 года возглавил штаб Красной гвардии в Гельсингфорсе.
Непосредственно в Таммерфорсе Красной гвардией руководил Юкка Абрамович Рахья – младший из трех братьев, внесших огромный вклад в победу финской революции. Средний из этой троицы – Эйно Рахья, который к нам присоединился в январе, – немало постарался и для Российской революции, возглавляя охрану Ленина с июля по конец октября 1917 года и осуществляя его связь с ЦК партии.
Для вооружения Таммерфорского полка Красной гвардии я выделил триста заручных винтовок (сверхкомплектных по наличному числу солдат). При этом были приняты все меры предосторожности, дабы эту передачу скрыть не только от финской буржуазии, но и от своих же рядовых солдат (в курсе был только Дивизионный комитет, давший разрешение на эту передачу). Из казармы винтовки были перевезены солдатами в штаб 106-й дивизии, который помещался рядом с рабочим домом, куда красноармейцы перенесли их, укупоренными в ящики.
Занятия и тренировки с красногвардейцами мной и другими офицерами дивизии производились по ночам непосредственно в Рабочем доме и его дворе. К этому времени я уже свободно говорил по-фински (Куусинен оказался прав – третий иностранный язык действительно дается намного легче, чем два первых), поэтому мне это было несложно. Несмотря на все принятые нами меры безопасности, информация об этом обучении все-таки выплыла наружу. В конце декабря у меня состоялась неофициальная беседа с помощником губернатора полковником Кремером, который посоветовал мне не вмешиваться в местные дела. Как-либо помешать мне в городе, комендантом которого был мой ставленник поручик Муханов, он был неспособен. Поэтому устным внушением дело и ограничилось.
В других местах происходило иначе. Пять ящиков винтовок, доставленные по железной дороге окружному секретарю местной социал-демократической партии и начальнику местной Красной гвардии Августу Иогановичу Веслею, были конфискованы.
С переменным успехом такая борьба продолжалась до конца января 1918 года. Отряды Красной гвардии формировались в крупных промышленных центрах, занятых русскими войсками, в южной части Великого княжества Финляндского, в то время как Белая гвардия группировалась преимущественно на севере и западе в районе Николайштадта, а также на востоке в Карелии. Источниками формирований красных были рабочие, белых – буржуазия, крестьянское население и интеллигенция, преимущественно шведская.
Глава 4. Другая сторона (За два месяца до дня «Д»)
Генерал-лейтенант российской армии барон Карл Густав Эмиль МаннергеймЯ никогда не сомневался, что мой род берет свое начало от свейских конунгов, бороздивших Балтийское море на хищных драккарах и державших в страхе население всех прибрежных европейских государств. Но смог проследить свое генеалогическое древо только до Хеннинга Маргейна, родившегося в конце XVI века в Гамбурге. Мой прадед, Карл Эрик Маннергейм, был шведским графом и одним из основателей Великого княжества Финляндского, добившимся его автономного статуса от Александра Первого.