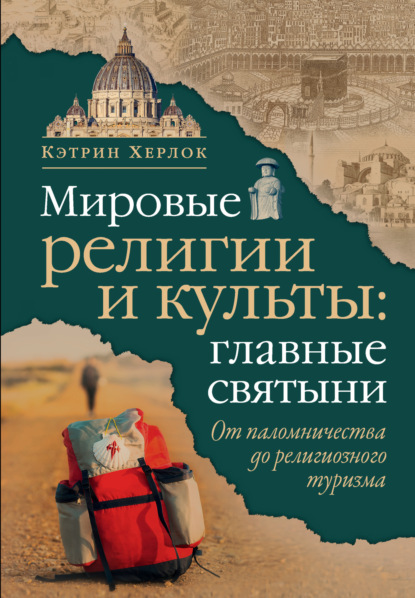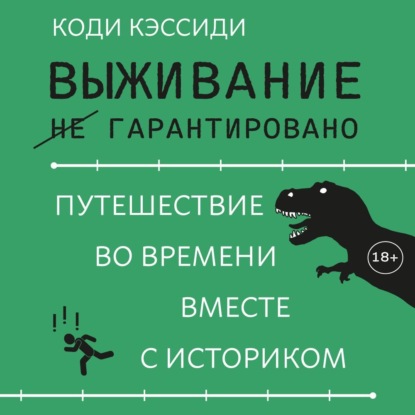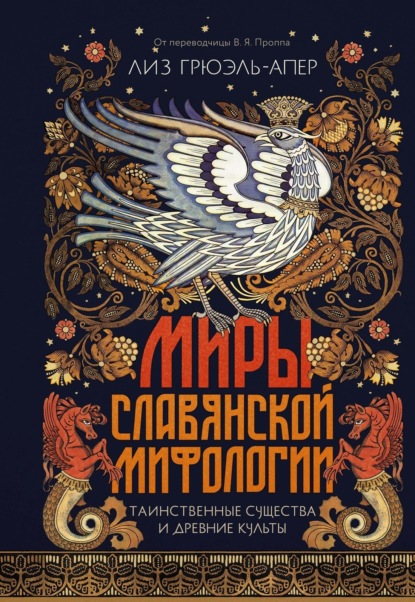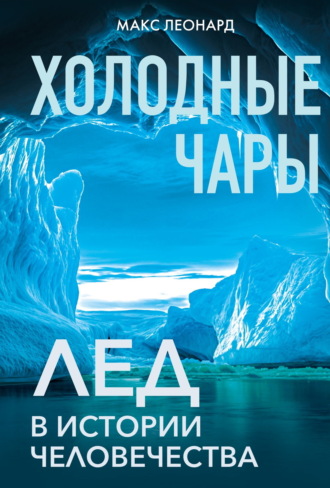
Полная версия
Холодные чары. Лед в истории человечества
С тех пор как были открыты первые наскальные рисунки, люди не перестают строить догадки об их значении. Долгое время господствовала точка зрения, что эти изображения имели духовную или даже шаманскую функцию для людей, живших в глубокой связи с природой. Другие полагали, что это проявление того, что мы могли бы назвать магией или утраченной анимистической мудростью, и, стоя там, в таинственном полумраке, можно интуитивно ощутить правдивость этих предположений[19]. Однако наверху, среди кафе самообслуживания, туалетных киосков и аккуратных дорожек, больше напоминающих ухоженную зону отдыха на автостраде, сама идея постичь их подлинное значение кажется тщетной надеждой. То, что некогда было местом благоговения и удивления, наполненным мощной духовной энергией, теперь превращено в удобный туристический объект с магазином сувениров. Разрыв между прошлым и настоящим кажется огромным.
Однако с момента создания Шове II наше понимание мира, в котором жили древние художники, значительно продвинулось. Новые методы выделения и анализа ДНК позволяют все точнее воссоздать картину их жизни, а свежие интерпретации находят все большее признание. Исследования по всему миру стремительно избавляют археологию от европоцентризма. Иногда значимые открытия происходят с разницей всего в несколько месяцев, полностью переворачивая устоявшиеся взгляды на жизнь в палеолите.
Сегодня палеолит словно оживает перед нами – ярче и ближе, чем когда-либо прежде. И, несмотря на банальность современного облика Шове II, мы можем поразмышлять, как лед ледникового периода изменил ход человеческой истории. Прежде всего, он создавал преграды и одновременно прокладывал пути: когда наши предки покинули Африку, низкий уровень моря и огромные ледники определяли их маршруты, а значит, и формировали то, кем они стали. Но был и другой эффект – социальный и культурный: холод изменил и без того сложную культуру ледникового периода, а его отзвуки до сих пор ощущаются в таких местах, как Шове II. Это словно тяготение, которое можно назвать «сознанием ледникового периода».
* * *Прежде чем на Земле появились первые люди, ледники и ледяные щиты плейстоцена медленно ползли вперед и назад по поверхности Земли, смывая тысячелетия, словно приливы. На протяжении более двух миллионов лет периоды оледенений, когда лед заполонял северное и южное полушария, чередовались с теплыми периодами, известными как межледниковые. Последний ледниковый период начался около 115 000 лет назад, а максимальная ледяная экспансия, когда ледяной покров достиг наибольшего распространения, произошла между 26 500 и 19 000 лет назад. Затем, примерно 11 700 лет назад, Земля вступила в межледниковый период, в котором мы продолжаем жить и сегодня.
Эти приливы и отливы определяли жизнь многих видов. С переходами от ледниковых эпох к межледниковым и обратно животные и птицы сталкивались с изменением своих территорий обитания, которые то расширялись, то сужались под воздействием климатических изменений – в ритме, напоминающем вдох и выдох. Места, где виды и экосистемы уцелели в суровые ледниковые времена, – относительные безопасные гавани – известны как рефугиумы. В этих рефугиумах одни виды процветали, другие лишь с трудом удерживались на плаву, а третьи, сталкиваясь с новыми экологическими кризисами и неожиданными возможностями, адаптировались. Например, во времена одной из ранних ледниковых эпох восточноевропейским ежам были «отведены» три уникальных рефугиума: Иберия, Италия и Балканы. После потепления они вернулись в Европу и повторно расселились как два разных вида: Erinaceus europaeus и Erinaceus concolor[20], смешиваясь, но так и не став одной недифференцированной популяцией. Подобным образом за последние 300 000 лет небольшая и географически изолированная популяция бурых медведей пережила ледниковый период в северном прибрежном рефугиуме, где условия способствовали эволюционным адаптациям к арктическим морским условиям. Так появились полярные медведи, которых мы знаем сегодня, – морские хищники с белоснежной шерстью[21].
Что касается древних людей, считается, что Homo sapiens и Homo neanderthalensis – неандертальцы – имели общего предка примерно 600 000 лет назад. Когда эта предковая популяция, населившая Африку, Азию и Европу, стала фрагментированной во время ледниковой эпохи, изолированные группы развивались независимо: в Европе они стали неандертальцами, а в Африке – в конечном итоге нами. Homo sapiens появился примерно 300 000 лет назад, а спустя еще около 100 000 лет мы стали анатомически современными – то есть способны делать все, что можем делать сегодня. Если бы одному из этих древних людей подарили бейсболку, шорты и шлепанцы, он бы легко вписался в толпу у Шове II.
Этот эволюционный всплеск произошел в субсахарской Африке (Черной Африке), откуда люди начали свое путешествие на юг и север по всему континенту. Хотя, как отмечается в одном академическом исследовании, «пульсации» [2] небольших групп, покидающих Африку, можно проследить еще 194 000 лет назад, ископаемые находки подтверждают существование более значительной волны миграции, начавшейся примерно 70 000 лет назад – именно тогда мы окончательно укрепили свои позиции в Евразии и за ее пределами. Современные люди прошли через Египет, пересекли Суэцкий перешеек и Синайский полуостров, далее пути миграции разветвились в разные стороны. Люди двигались стремительно: уже через 65 000 лет они достигли Австралии, которая тогда соединялась с Новой Гвинеей; около 45 000 лет назад прибыли в Европу, а к 31 000 лет обосновались в стране полярного дня, за полярным кругом в Сибири.
Где-то в этом путешествии из Африки мы столкнулись с ледяной стихией[22]. В течение этих тысячелетий, предшествовавших последнему максимальному ледниковому периоду, температуры падали, а площадь ледяного покрова расширялась. Скандинавский ледниковый щит занимал большую часть Британских островов и Северо-Восточной Европы, в конечном итоге достигая почти Москвы, в то время как ледниковый щит Патагонии венчал Анды. Северная треть Северной Америки также оказалась подо льдом: на западе простирался Кордильерский ледниковый щит, а на востоке Лаврентийский ледниковый щит доходил до Нью-Йорка.
И этот лед диктовал, куда мы могли двигаться. Частично это определялось пространством, которое он создавал: поскольку огромное количество воды было заключено в ледниках, уровень моря в период последнего ледникового максимума был, возможно, на 120 метров ниже, чем сегодня. То, что ныне известно как Британские острова, соединялось с Нидерландами через Доггерленд – обширную тундру, где сливались реки Темза, Рейн и Шельда, образуя гигантский канал, впадавший в Атлантику. Первые Homo sapiens, достигшие Англии, просто прошли туда пешком. Аналогично существовал сухопутный мост между Сибирью и Аляской, ныне известный как Берингия, который позволял небольшим группам современных людей переходить из восточной России в Америку. В этот же период некоторые индонезийские острова были связаны с материковым Индокитаем[23].
Тем временем ледники сторожили границы обжитых земель. Когда люди пересекли сухопутный мост и ступили на североамериканскую территорию, они обнаружили, что Берингия отрезана от остального континента ледяными барьерами (Берингия, как и большая часть Сибири и Северного Китая, не была покрыта ледниками из-за недостатка осадков). Продвигаясь на юг и восток по новому континенту, люди зависели от ледников, которые определяли их путь. Долгое время считалось, что они продвигались через свободный ото льда коридор в Канаде, достигнув Среднего Запада около 14 000–15 000 лет назад. Однако все больше свидетельств указывает на более раннее присутствие людей и маршрут вдоль побережья Тихого океана, где они обходили ледники, переправляясь между островами на юг.
Однако если лед открывал новые земли, то с его таянием они вновь становились недоступными. Около 7000–8000 лет назад Великобритания стала островом, когда Доггерленд был затоплен, скорее всего, в результате разрушения мелового хребта, который сдерживал огромное ледниковое озеро. Это отрезало местное население от континента и положило начало долгой и в конечном итоге непростой истории изоляции от европейской суши. Российско-американское «сотрудничество» в Берингии завершилось примерно 11 000 лет назад, и с тех пор отношения между этими землями редко бывали столь же теплыми.
Какие тайны нашего далекого прошлого скрываются под толщей постледниковых морей? Если учесть, как часто люди селились на низменностях и побережьях, то те участки суши, что остались над водой, возможно, дают нам лишь обрывочные свидетельства о жизни в эпоху ледникового периода. Намек на то, что могло быть утрачено, открывает пещера Коске, расположенная неподалеку от Марселя, во Франции. Пещера была открыта в 1985 году аквалангистом[24] в водах Средиземного моря, 175-метровый туннель, вход в который расположен на глубине 37 метров, ведет к просторной пещерной камере, украшенной доисторическими отпечатками рук и изображениями лошадей, бескрылых гагарок, тюленей и других животных. В эпоху, когда Коске была расписана, около 27 000 лет назад, она находилась в нескольких километрах от побережья среди известняковых холмов. Это единственная известная пещера с наскальной живописью, вход в которую сейчас возможен только под водой, и, хотя около 80 % ее пространства уже поглощено морем – а находящиеся сейчас под водой стены, возможно, тоже были покрыты изображениями, – она остается одним из важнейших памятников доисторического искусства в Европе. Коске наглядно показывает, как сильно лед менял ландшафт, в котором жили наши предки.
Где-то на нашем пути через Азию мы встретились с нашими родственниками – неандертальцами, которые уже обосновались на просторах Леванта, Европы и Центральной Азии. Мы встретились, вероятно, учились друг у друга многим вещам, и, без сомнения, вступали в близкие отношения[25]. Когда пик ледникового периода стал приближаться, а температуры продолжали падать, Южная и Западная Европа превратились в убежище для Homo sapiens. К моменту последнего ледникового максимума зимние температуры в Западной Европе опускались до –30 °C, а летние едва достигали 10 °C. Однако если Западная Европа и стала для нас безопасным пристанищем, то для наших неандертальских родственников этого сказать нельзя. Никто не может точно объяснить, как Homo sapiens вытеснили неандертальцев и почему те вымерли, но вполне возможно, что на это повлияли похолодание и все более нестабильный климат. Согласно одной из теорий, хотя неандертальцы и были приспособлены к холоду, они вели чрезвычайно активный образ жизни, требующий больших объемов мяса. По мере того, как температура падала и пища становилась дефицитной, их «метаболические потребности превысили способность обеспечивать организм достаточной энергией для поддержания жизни и размножения» [3], что привело их, а затем и вид в целом, к губительному стрессу.
Некоторые из самых поздних останков неандертальцев были найдены в Гибралтаре. Возможно, в скором времени археологи обнаружат доказательства их существования в более поздний период где-нибудь в России, Китае или других частях Европы. Тем не менее гибралтарские находки все же ощущаются как символ последней битвы неандертальцев с холодом на самом южном краю Европы.
* * *Естественно предположить, что первое столкновение человечества со льдом было шокирующим или даже завораживающим: стоит лишь взглянуть на малышей, впервые увидевших снег. Какой неожиданностью должно было стать для наших предков обнаружение воды – стихии, которая редко замирает в природе, – застывшей. «Вода стала костью», как говорится в древней саксонской загадке. Но, вероятно, не менее странным и нежеланным было оказаться в условиях, благоприятствующих образованию льда. Сам Зигмунд Фрейд обратил свой аналитический взор на эту травму. В статье 1914–1915 годов (полет фантазии, настолько эзотерический, что она так и не была опубликована) Фрейд предположил, что древний человек воспринимал ледниковый период как своего рода изгнание из рая, столь психически разрушительное, что оно стало источником всех современных неврозов. «Человечество, – писал он, – под влиянием лишений, которые навязал приближающийся ледниковый период, стало подвержено общей тревожности. Дружелюбный мир, который прежде дарил всяческое удовлетворение, превратился в массу угрожающих опасностей» [4]. В борьбе за выживание, по его мнению, также родились истерия, навязчивые неврозы и тираническое правление первобытного Отца.
Принимать или отвергать Фрейда – это личный выбор, и его концепция действительно впечатляет, но совершенно не имеет опоры в наблюдаемой реальности. Тем не менее в его время он находился на передовой в исследованиях человеческой психики[26]. Фрейд всегда углублялся в прошлое, чтобы объяснить настоящее, будь то события из детства или мифы Древней Греции об Эдипе. Примечательно, что в середине своей карьеры он обращался к ледниковому периоду, чтобы разработать теории о современном состоянии человека. В его повествовании ледниковый период становится, подобно мифу об Эдипе, основополагающим мифом, определяющим наше понимание человеческой сущности.
Отец психоанализа не был единственным, кто углублялся в подобные размышления. Археология, обретая зрелость, находилась на пороге своего расцвета в то время, когда возникал психоанализ – археология души. Другие ученые, исследующие человеческий разум, также откликались на новые откровения о нашем глубоком прошлом. Идея, что трудности ледникового периода изменили структуру нашего мозга, была широко распространена в начале XX века. С тех пор, как была опубликована неудачная работа Фрейда, она так и не исчезла из общественного сознания[27]. Мы продолжаем воспринимать ледниковый период как мифическую основу человечества, напоминая о том притягательном «они были такими же, как мы», которое предлагает Шове II со своими картинами людей в шкурах, скромными изображениями мегафауны и информационными стендами. Однако эта концепция постепенно устаревает, уступая место более тонкому пониманию развития человечества и нашего отношения к холодному климату.
Теперь мы знаем, что фигуративное искусство, вероятно, зародилось в других уголках мира[28]. В 2021 году археологи сделали сенсационное открытие: картина свиньи, найденная в удаленной пещере на острове Сулавеси, согласно датировкам, была создана как минимум 45 500 лет назад. Эта свинья, изображенная красной охрой в натуральную величину, стала старейшим известным рисунком животного в пещере. Она пополнила небольшую коллекцию индонезийских произведений искусства возрастом 40 000 лет или даже старше, которые были найдены совсем недавно и разрушили многолетний миф, что фигуративное искусство этого раннего периода существовало лишь в Европе. Также нарастает осознание того, что европоцентризм формировал наше восприятие далекого прошлого. С самых первых шагов развитие археологии в значительной степени определялось белыми европейскими мужчинами. В ранние дни они, словно искатели сокровищ, копались в своих задних дворах – и, как ни странно, если искать артефакты в основном во Франции, Испании, Германии или Великобритании, именно там их и обнаружат.
К этому необходимо добавить «выборочность сохранения». Прохладная, сухая пещера, куда люди возвращались из года в год, становится концентрированным и заметным местом активности и хорошим укрытием для артефактов на протяжении веков. В то время как более обширные или временные поселения в теплых климатах оставляют гораздо меньше следов. Более того, многие культуры могли не иметь доступа к скальным стенам или крупным костям и, возможно, предпочитали создавать инструменты или выражать себя с помощью менее прочных материалов или в более недолговечной форме. Древняя ДНК гораздо хуже сохраняется в жаре. В этом смысле лед ледникового периода оказал археологам большую услугу (и мы вернемся к находкам во льде в следующей главе).
Тем не менее богатство находок на относительно небольшой географической территории, датируемых примерно 45 000 лет назад, убедительно свидетельствует, что целый ряд навыков и умений слились воедино внезапным и поразительным образом, и структура человеческого существования изменилась. Первым экспонатом может служить Венера из Холе-Фельс – шестисантиметровая скульптура женщины из мамонтовой кости с акцентированными грудью, животом и бедрами, найденная в 2008 году в пещере на юго-западе Германии, в Швабском Альбе. Датируемая 35 000–40 000 лет назад, она является старейшим известным изображением человека. В той же пещере и примерно того же возраста была обнаружена флейта из кости грифа: с пятью отверстиями для пальцев и выемкой на конце, она является одним из древнейших музыкальных инструментов, известных на сегодняшний день. А всего в 20 (современных) минутах пути по дороге еще одна удивительная находка: человеколев из Холенштайна – скульптура из мамонтовой кости, изображающая тело человека с головой льва, также датируемая примерно 40 000 лет. Высотой около 30 сантиметров. Для ее создания потребовалось около 400 часов, и она представляет собой воображаемый прыжок в новую область нереальных, возможно, сакральных существ[29]. Как утверждает Джилл Кук, куратор выставки «Искусство ледникового периода и появление современного разума», прошедшей в Британском музее в 2013 году, это свидетельствует о «деятельности сложного супермозга, подобного нашему, с хорошо развитыми префронтальными долями, обеспечивающими способность сообщать идеи через речь и искусство» [5].
Важно подчеркнуть, что эти европейские люди ничем не отличались от людей в других частях мира: у них не было особого генетического преимущества по сравнению с их современниками. Искусство и культура вспыхивали и гасли по всему миру на протяжении десятков тысяч лет, от Южной Африки до Индонезии и, вероятно, во многих других местах, еще не открытых. Мы начали свое путешествие из Африки с нейробиологическим потенциалом адаптироваться к тем вызовам, которые встречали на своем пути. Это привело многих археологов и биологов к мысли, что для объяснения этого сосредоточенного расцвета культуры и инноваций в ледниковой Европе стоит обратить внимание на экологические факторы: климатические и социальные аспекты могут быть тесно связаны между собой[30].
* * *Когда ледниковый период дошел до своего максимума, районы центральной и восточной Европы стали враждебнее. В ответ на эти условия появилось изобретение, которое стало важным элементом новой технологии: иглы. Первые экземпляры игл в Европе имеют возраст по меньшей мере 35 000 лет. Эти изделия, изготовленные из кости, использовались для сшивания шкур с помощью сухожилий или кишок животных, создавая «модную» одежду из шкур, которая защищала людей от ночного холода и служила защитой во время охоты в ледяной тундре. Считается, что иглы брали с собой в многодневные охотничьи походы, чтобы в случае необходимости отремонтировать важные слои одежды, обеспечивающие тепло.
Иглы кардинально отличаются от каменных топоров, которые люди изготавливали на протяжении уже 2,5 миллиона лет. Оба инструмента требуют концептуализации, абстракции и дальновидности – внешнего проявления мысли. Однако процесс придания игле нужной формы, создание игольного ушка и тонкая работа по обработке шкур и их сшиванию в составной предмет одежды представляют собой значительно более сложное и утонченное мастерство. Шила, простые инструменты для прокалывания шкур, существовали в Южной Африке и других местах более 20 000 лет, но новые факторы отбора воздействовали на уже существующие технологии и модели мышления. Игла появилась как результат жизненной необходимости в условиях леденящего холода[31].
Со временем хорошо скроенная одежда не смогла полностью компенсировать последствия падения температур, и центр тяжести популяции Homo sapiens в Европе переместился на юг и запад. Многие из них в конечном итоге осели на юго-западе Франции и в прибрежных районах Северной Испании. Этот рефугиум стал не только защитой, но и трансформировал их общества и культуру по мере того, как все более холодные условия сужали ареалы обитания европейских Homo sapiens до все меньших клочков пригодной для жизни земли и, словно у головастиков в высыхающем пруду, плотность населения резко возрастала. Это привело к социополитическим проблемам, и привычная реакция охотников-собирателей на территориальные вызовы (миграцию) перестала быть вариантом. Вместо этого им пришлось находить новые способы сосуществования, разрешения конфликтов и решения возникающих проблем. В таком контексте и возникло настенное искусство, такое как в пещере Шове и других. «Изобретение материальных форм представления совпало с важной социальной трансформацией» [6], – отмечает один из ученых. «Искусство, вероятно, сыграло роль в разрешении конфликтов, поскольку социальная география региона становилась все более характерной для относительно замкнутых социальных сетей», – добавляет другой. Все главные европейские памятники пещерного искусства расположены в этом рефугиуме.
Одной из функций искусства была социальная: в больших группах коммуникация становилась все более важной. Людям необходимо сотрудничать, устанавливать связи или вести переговоры друг с другом, а также осознавать или формировать общее намерение с людьми, которые могут быть почти незнакомцами. Ритуалы и традиции объединяют людей в общем понимании мира и сил, его формирующих, подчеркивая или укрепляя основные практические задачи выживания. Многие переносные произведения искусства и декоративные элементы, как предполагается, исполняли эту роль.
Пещерное искусство тем не менее имело информативную цель. В то время как население возрастало, оно также распадалось на более мелкие группы. Из-за нехватки еды и ресурсов превышение определенного числа членов племени обязывало бы его к бесконечным путешествиям в поисках пищи, необходимой для выживания всех: лишь небольшие семейные или племенные объединения могли обходиться без ежедневных лишений. Однако в таких малочисленных сообществах возникали сложности с поддержанием необходимых навыков. К тому же они могли подвергаться инбридингу.
Именно здесь на сцену выходят крупные пещеры, такие как Шове, Альтамира в Кантабрии (на Севере Испании) и Ласко в Южной Франции – места, где искусство наскальной живописи достигло своего апогея по обе стороны ледника во времена последнего ледникового максимума[32]. Многие исследователи полагают, что такие объекты, помимо возможного сакрального или ритуального назначения, служили местами для «собраний»: каждый год небольшие племенные группы издалека стекались сюда, ведомые весенним теплом и знакомыми ориентирами вдоль пути, чтобы встретиться в просторных залах пещер, обменяться знаниями о своих охотничьих угодьях, передать навыки и смешать гены перед тем, как снова разойтись. Искусство играло свою роль в этих процессах [7]. Некоторые из изображений в Шове являются натуралистическими; другие, кажется, заимствуют техники из модернизма, кубизма, кинематографа и других видов искусства, передающих движение, которые появятся лишь 30 000 лет спустя. Часть из них можно было бы назвать «реалистичными», если бы не тот факт, что реализм также подразумевает набор культурных предпосылок, чуждых ледниковой эпохе; но в основном на картинах изображены хищники и жертвы, представленные в точной и узнаваемой манере. Они действительно красивы, но также точны и полезны, демонстрируя глубокое и детальное понимание животных, от которых зависело наше выживание.
Недавно была выдвинута революционная теория о роли некоторых пещерных рисунков. Долгое время исследователи отмечали, что животные на стенах Ласко изображены в период гона и демонстрируют брачное поведение, хотя красные олени, лошади и туры (согласно аналогиям с современными видами) делают это в разные сезоны. Пол Пэттитт, археолог из Университета Дарема, называет это «календарем гона, секса и создания» [8]. Похожие сцены можно встретить и в других пещерах. Однако в 2022 году стало известно, что исследователь-любитель, получивший поддержку от Пэттитта и других, разгадал загадочные обозначения рядом с изображениями: эти точки, линии и формы в виде буквы Y указывали на лунные месяцы, когда происходили важные события в жизни изображенного животного – миграция, спаривание или, в случае Y, роды. В такие моменты животных становилось особенно много или они оказывались уязвимыми, что делало их идеальными целями для охоты.
Это обозначение – которое открыватели называют «протописьменностью» [9] – выдвигает эти изображения за пределы простой репрезентации и реализма, приближая их к чему-то вроде инструкции. Они представляют собой, если использовать более сложные термины, экзосоматическую память: способ запечатления информации вне сознания, позволяющий передавать знания от группы к группе и от поколения к поколению, подобно тому, как это делают книги в современном мире.
Искусство ледникового периода не только выполняло важную социальную роль, создавая гармонию и объединяя разные группы, но и служило жизненно необходимым хранилищем знаний, инструментом выживания и решающим этапом нашего развития. В суровых условиях вечной зимы, в критический момент нашей культурной эволюции, мы сотворили прекрасное и полезное искусство.