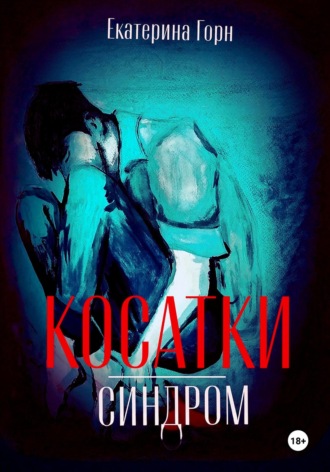
Полная версия
Синдром косатки
Вернувшись домой, он не стал сразу проверять замки. Он подошел к тумбочке, где стояли его «святыни» – косатка и лаванда. Рядом с ними он положил новый рисунок. Беспорядочный клубок линий, понятный только ему. Триптих. Боль. Надежда. И дрожь прикосновения.
Вечером он снова подошел к пианино. На этот раз он не просто тыкал в клавиши. Он положил на них пальцы, как когда-то делала его мать. И просто сидел так, чувствуя холод слоновой кости под подушечками пальцев. Он не играл. Он просто вспоминал. Вспоминал звук. Тембр ее голоса. Шепот дождя за окном. Свой собственный стук сердца.
Его бассейн все так же оставался бассейном. Но сегодня его вода отражала не только серое небо. Она отражала чье-то лицо. И чье-то прикосновение. И это отражение было не статичным. Оно дышало. Жило. И, возможно, однажды, сможет выпрыгнуть наружу.
Глава 47. Приговор нормальности
Дни потянулись, словно смола – медленно, густо, каждый наполненный тихим, почти невыносимым ожиданием. Автобусные поездки стали ядром его новой, хрупкой реальности. Теперь он не просто наблюдал. Он участвовал. Молча, робко, но участвовал.
Шоколадка стала их ритуалом. Каждое утро он протягивал ей плитку, их пальцы иногда касались – мимолетно, случайно, – и каждый раз от этого прикосновения по его спине бежали мурашки. Он учился различать оттенки ее настроения по тому, как она брала шоколад: устало-благодарно, весело-торопливо, задумчиво-медленно.
Однажды она не приехала.
Паника накрыла его с головой, черная, липкая, знакомая.
Она поняла, – завопила Тень. – Увидела сумасшедшего и сбежала. Нашла себе нормального. Михаила.
Может, она заболела? – хныкал Мальчик. – Надо помочь!
Рекомендуется сохранять режим наблюдения, – бубнил Страж, но и в его голосе слышалась тревога. – Любое вторжение будет воспринято как агрессия.
Он просидел до конца маршрута, сжавшись в комок, чувствуя, как его бассейн снова сжимается, давит, вытесняет воздух. Дом встретил его гробовой тишиной. Даже пианино молчало упрекающе.
На следующий день она снова была на остановке. Бледная, с синяками под глазами, но улыбающаяся.
«Извини, вчера не смогла, – сказала она, садясь рядом. – Свалилась с температурой. Весь день провалялась в бреду.»
Она взяла шоколадку, и ее пальцы были горячими.
«Вы… выздоровели?» – с трудом выдавил он.
«Почти. Спасибо, что спросил, Лев.»
Ее имя, сказанное ею самой, прозвучало для него как музыка. Он кивнул, не в силах вымолвить больше ни слова, и весь путь просидел, сгорая от стыда за свою вчерашнюю панику и от странной, щемящей нежности к ее бледности.
Вечером он не пошел домой. Он зашел в аптеку – первую попавшуюся, маленькую, пахнущую травами и лекарствами. Покупка далась ему ценой невероятных усилий – потные ладони, ком в горле, голос, срывающийся на шепот. Но он купил пачку хорошего чая с травами и маленькую баночку меда.
На следующее утро он протянул ей не шоколадку. Он протянул сверток – неловко, отвернувшись, готовый к отпору.
«Это… чтобы восстановиться. После температуры.»
Алиса взяла сверток, развернула. Посмотрела на чай, на мед, потом на него. В ее глазах что-то дрогнуло – что-то теплое, глубокое, неуловимое.
«Лев… это так мило. Спасибо. Правда.»
Она не стала отнекиваться. Не сказала «не надо». Она просто приняла. Ее принятие было для него страшнее и прекраснее любой благодарности.
Он сидел и смотрел, как она держит в руках баночку меда, и чувствовал, как в его груди разливается тепло, против которого были бессильны все голоса, все страхи, все стены его бассейна.
Он все так же был косаткой в неволе. Но теперь у кого-то за стеклом был не просто зритель. У кого-то были в руках не фотоаппарат, а еда. И это меняло все.
Глава 48. Медленная смерть в отравленной воде
Тепло от ее слов грело его весь день, как маленькое солнце, спрятанное в груди. Он ходил по дому, и его движения стали чуть более плавными, чуть менее скованными. Он даже попытался навести порядок в гостиной – не тот болезненный, ритуальный порядок, а просто убрал самые заметные залежи пыли, сложил книги в стопки. Его бассейн все еще был бассейном, но вода в нем, казалось, стала чуть прозрачнее.
Неоправданная трата энергии, – ворчал Страж, но уже без прежней убежденности. Лучше бы провел дополнительную проверку периметра.
Мы делаем дом лучше для нее! – радовался Мальчик. – Может, она снова придет!
Готовишь клетку для новой птички? – ядовито спрашивала Тень. – Смотри, чтобы не заскучала и не улетела.
Лев не обращал на них внимания. Он мыл чашку – одну-единственную, самую чистую, – и думал о том, что завтра нужно купить еще чая. Разного. Может, с бергамотом. Или с жасмином. Он никогда не задумывался о таких вещах. Его мир состоял из черного и белого, из безопасного и опасного. Теперь в нем появились оттенки. Ароматы.
На следующее утро он ждал ее с особым нетерпением. В кармане лежала не шоколадка, а пакетик того самого чая, который он купил вчера. Он хотел спросить, понравился ли он ей. Хотел услышать ее мнение.
Но ее не было.
Не было на привычной остановке.
Не было в автобусе.
Не было вообще.
Первая волна паники была знакомой, липкой. Я слишком многого захотел. Слишком далеко зашел. Она испугалась.
Может, опять заболела? – пытался найти оправдание Мальчик, но его голосок дрожал.
Кончились игры, – констатировала Тень с леденящим спокойствием. – Она наигралась в добрую фею и ушла. Ищи новую забаву.
Лев проехал до конца маршрута, потом обратно. Его руки дрожали, в висках стучало. Он чувствовал себя обманутым. Преданным. Его маленькое солнце погасло, оставив после себя еще более густой мрак.
Вечером он не стал пить чай. Он сидел в темноте и смотрел на деревянную косатку. Она казалась ему просто куском дерева. Грубым, неотесанным, уродливым. Он взял ее в руку, сжал так, что заноза впилась в ладонь. Боль была острой, реальной. Приятной.
На следующий день ее снова не было.
И на следующий.
Его бассейн сжимался, стены давили. Он перестал покупать шоколадки. Перестал убираться. Вернулся к своим ритуалам с удвоенной силой, как будто пытаясь замолить грех надежды.
Через неделю он увидел ее.
Не в автобусе.
На улице. Идущую под руку с тем самым Михаилом. Они смеялись, о чем-то оживленно разговаривая. Она опиралась на его руку, и ее лицо сияло таким счастьем, которого Лев никогда не видел.
Мир остановился. Звуки заглохли. Осталось только это видение – она и он, такие прекрасные, такие цельные, такие… нормальные.
Вот он, твой соперник, – прошептала Тень, и в ее голосе звучала почти жалость. Сильный, здоровый, настоящий. А ты что? Призрак. Сумасшедший с шоколадками.
Может…? – слабо попытался возразить Мальчик.
Перестань, – оборвал его Страж. – Проведем анализ. Отойдем на безопасное расстояние.
Лев отшатнулся в подворотню, прижался к холодной стене, стараясь перевести дыхание. Он чувствовал себя пойманным воров, подглядывающим в замочную скважину в чужую, светлую жизнь.
Они прошли мимо, не заметив его. Их смех еще долго звенел у него в ушах, как похоронный звон.
Он побрел домой, не помня дороги. Его руки сами собой совершали привычные ритуалы – мытье, проверка замков, – но это было просто движение пустой оболочки. Внутри него было выжжено дотла.
Он подошел к тумбочке, взял деревянную косатку и зажатую в ладони лаванду. Он стоял с ними в руках, чувствуя их вес, их бесполезность, их глупый, наивный символизм.
И бросил в мусорное ведро.
Сперва лаванду. Потом косатку.
Звук, с которым они упали на дно ведра, был самым громким звуком в его жизни.
Его бассейн был пуст. В нем не было ни воды, ни надежды. Только голые, холодные стены. И он сидел на дне, запрокинув голову, и смотрел на далекое, недосягаемое небо, понимая, что его прыжок был всего лишь судорогой загнанного в угол животного.
Игра окончена.
Глава 49. Архивация уязвимости
Тишина, наступившая после того, как смолк стук дерева о дно мусорного ведра, была абсолютной. Даже голоса в его голове притихли, ошеломленные масштабом разрушения. Лев стоял над ведром, глядя на торчащую из-под смятой бумаги лапу косатки, и не чувствовал ничего. Ни боли, ни злости, ни даже привычного страха. Только ледяную, абсолютную пустоту. Он не просто выбросил куски дерева и засушенный цветок. Он выбросил саму возможность. Надежду. Веру в то, что что-то может быть иначе.
Он механически выполнил все вечерние ритуалы, но это были движения робота, запрограммированного на самоуничтожение. Мытье рук длилось ровно семнадцать минут, пока кожа не снялась пластами, но ощущения скверны не исчезло – оно стало только острее, физическим, всепоглощающим. Он проверял замки снова и снова, пока пальцы не онемели от металла, но чувство безопасности не приходило. Дверь была заперта, но угроза была уже внутри. В нем самом.
Он лег в постель и уставился в потолок. Его сны, когда они наконец пришли, были черными, беззвучными, как космос. Он падал в них в бездонную, сухую пустоту, где не было ни воды, ни стен, ни дна. Просто бесконечное падение в никуда.
Утро не принесло облегчения. Он оделся в самую темную, самую невзрачную одежду, какая у него была, и вышел из дома, не оглядываясь. Его походка была деревянной, взгляд устремленным внутрь себя. Он не покупал шоколад. Не смотрел по сторонам. Он был тенью, возвращающейся в привычную форму небытия.
В автобусе он занял свое место, вжался в угол и закрыл глаза, стараясь не видеть, не слышать, не чувствовать. Его мир снова сузился до размеров его тела, до сердцебиения в ушах, до знакомого, почти уютного отчаяния.
Она вошла на своей остановке. Одна. Без Михаила. Ее лицо было серьезным, даже усталым. Она увидела его, и в ее глазах мелькнуло что-то – облегчение? – и она направилась к нему.
Лев не двинулся с места. Не поднял глаз. Он смотрел на свои ботинки, чувствуя, как каждый ее шаг отдается в нем глухим ударом.
«Лев? – ее голос прозвучал тихо, почти несмело. – Доброе утро. Я… я вчера искала тебя. И позавчера. Я болела, ангина, вообще не выходила. А потом… потом у нас были срочные репетиции, меня даже с телефона отрезали…»
Он не ответил. Не поднял головы. Он чувствовал, как внутри него что-то рвется, ломается, кричит, но снаружи он был лишь холодной, молчаливой глыбой.
«Лев, послушай, я… я принесла тебе кое-что. В знак извинения.» Она протянула ему маленький, плоский сверток.
Он не взял. Его руки лежали на коленях, сжатые в бессильные кулаки.
Она помолчала, потом осторожно положила сверток ему на колени. «Ладно… я оставлю тут. Как захочешь.» Она постояла еще мгновение, словно надеясь на что-то, потом развернулась и отошла, села на свое обычное место.
Сверток лежал на его коленях, легкий, почти невесомый. Он чувствовал его вес, как чувствовал бы гирю. Это была ловушка. Новая уловка. Новая порция яда, замаскированного под доброту.
Не трогай, – прошептал Страж, и его голос снова обрел былую твердость. – Неизвестный объект. Высокий риск.
Возьми! – взмолился Мальчик, но его голосок был слабым, полным слез. – Она извиняется! Она болела!
Лев сидел не двигаясь, пока автобус не подъехал к его остановке. Тогда он встал, и сверток упал на пол. Он прошел к выходу, не оглядываясь, чувствуя, как на него смотрят. Смотрят с жалостью, с осуждением, со страхом.
Он вышел на улицу и пошел домой, не оборачиваясь. Его шаги были быстрыми, резкими. Он чувствовал себя предателем. Трусом. Монстром. Но это чувство было знакомым, почти родным. Оно было частью его, частью его бассейна, частью его проклятия.
Дома он запер дверь на все замки и рухнул на пол в прихожей. Его трясло. Слезы, которых не было так долго, хлынули потоком – беззвучные, удушающие, полные ненависти к себе.
Он дополз до мусорного ведра и заглянул внутрь. Косатка и лаванда лежали там, среди объедков и бумаг. Мертвые. Выброшенные. Как и он сам.
Он достал их. Не с нежностью, а с яростью. Сжал в руках, чувствуя, как дерево впивается в кожу, как лаванда крошится, осыпаясь сухими лепестками.
Он не мог выбросить их. Не мог принять. Он зажал их в кулаках, прижал к груди и лежал так на холодном полу, пока слезы не высохли, а ярость не сменилась ледяным, беспросветным отчаянием.
Его бассейн был заполнен не водой. Он был заполнен молчанием. И в этом молчании не было даже эха его собственного голоса. Только тихий, бесконечный вой одиночества.
Глава 50. Льдинка в море горя
Он не знал, сколько пролежал так на полу – минуту, час, всю вечность. Время спрессовалось в плотный, тяжелый ком, лишенный смысла и направления. Когда он наконец поднялся, его тело болело, будто его избили. В кулаках он все еще сжимал обломки своей надежды – косатку и истлевшую лаванду.
Он не бросил их обратно в ведро. Не поставил на тумбочку. Он отнес их в мастерскую, в дальний угол, заваленный хламом, и положил на старый верстак, покрытый слоем пыли и стружек. Не как святыни. Как улики. Как напоминание о своей глупости, своей уязвимости, своем падении.
Архивация эмоционально заряженных объектов, – прокомментировал Страж, и в его голосе снова звучала холодная, безжизненная логика. – Оптимальное решение. Снижает риск повторной травмы.
Мы похоронили их, – прошептал Мальчик, и в его голосе слышались слезы. – Похоронили наши мечты.
Отправили в утиль, где им и место, – поправила Тень. – Как и тебя скоро отправят.
Лев не ответил. Он молча выполнил все ритуалы, но теперь они были не щитом, а наказанием. Каждое движение – мытье рук, проверка замков – было актом самобичевания. Он заслужил эту боль. Этот замкнутый круг. Этот бассейн.
На следующее утро он снова поехал в автобусе. Не для того, чтобы встретить ее. Для того, чтобы доказать себе, что может существовать и без ее улыбки, без ее «до завтра».
Он был косаткой, привыкшей к неволе. Он мог вернуться к своему плаванию по кругу. Должен был.
Она вошла на своей остановке. Бледная, с красными, опухшими веками. Она посмотрела на него – быстрый, испуганный взгляд – и прошла дальше, села у окна, отвернувшись.
Тишина в автобусе была густой, тягучей, как сироп. Он чувствовал ее взгляд, упирающийся ему в спину. Чувствовал ее недоумение, ее боль. И свою собственную вину, которая жгла его изнутри, как раскаленный уголь.
Враг демонстрирует признаки слабости, – анализировал Страж. – Рекомендуется сохранять дистанцию. Любое сближение будет использовано против нас.
Она плакала, – шептал Мальчик. – Из-за нас. Мы должны извиниться.
Ага, – фыркнула Тень. – Подойди и скажи: «Извини, что я псих. Не обижайся». Она обрадуется.
Лев сидел, вцепившись в сиденье, и смотрел в свое окно, но не видел ничего, кроме отражения своего искаженного болью лица. Он был заложником собственного безумия. Своих страхов. Своей неспособности быть нормальным.
Когда автобус подъехал к его остановке, он встал и пошел к выходу, не оглядываясь. Он чувствовал, как ее взгляд провожает его, но не обернулся. Не мог.
На пороге дома его ждал новый сюрприз. Конверт. Такой же, как тогда, с лавандой. Но на этот раз он был не белым, а серым, и на нем не было его имени.
Лев поднял его дрожащими пальцами. Что это? Угроза? Насмешка?
Он вскрыл конверт. Внутри лежала не лаванда. Внутри лежала фотография. Старая, пожелтевшая, с волнистыми краями. На фотографии был он. Ему лет пять. Он сидит на коленях у матери за этим самым пианино и вместе с ней нажимает на клавиши. Он смеется. Мать смотрит на него с такой нежностью, что у Льва перехватило дыхание.
На обороте фотографии чьим-то неуверенным, дрожащим почерком было написано: «Она бы гордилась тобой. А.С.»
Анна Сергеевна. Соседка. Та, что помнила его мать. Та, что видела его падение.
Лев стоял в прихожей, сжимая в руках фотографию, и не мог пошевелиться. Глаза его были сухими. Слез не было. Была только огромная, всепоглощающая пустота, в которой отражалось его детское счастье, как призрак в мертвом море.
Он не пошел к ней. Не сказал спасибо. Он пронес фотографию в мастерскую и положил ее рядом с косаткой и лавандой. Три улики. Три обломка прошлого, которые не складывались в настоящее.
Он подошел к пианино, откинул крышку и тронул клавишу. Тот же уродливый, дребезжащий звук. Но на этот раз он услышал в нем не боль. Он услышал в нем… вызов.
Его бассейн был пуст. Но на дне его кто-то оставил фотографию. Намек на то, что когда-то, очень давно, здесь была не только вода. Здесь была музыка.
Глава 51. Роза с шипом
Фотография жгла его. Лежа там, в мастерской, среди обломков надежд и страхов, она излучала тихий, неумолимый свет, проникающий сквозь стены, сквозь время, сквозь броню его молчания. Лев не мог войти в мастерскую, но не мог и забыть о ней. Она стала новой точкой отсчета в его вселенной, новой координатой боли.
Эмоциональный шантаж, – шипела Тень, но ее голос потерял прежнюю уверенность. – Старая карга пытается вернуть тебя в прошлое. Туда, где ты был слабым. Где тебя можно было сломать.
Она помнит маму, – шептал Мальчик, и в его голосе звучал благоговейный ужас. – Она знает, какими мы были.
Риск ностальгии, – холодно анализировал Страж. – Неконтролируемый эмоциональный всплеск. Рекомендуется изолировать источник угрозы. Уничтожить фотографию.
Лев не уничтожил. Он просто закрыл дверь в мастерскую и не заходил туда неделю. Он вернулся к своим ритуалам с удвоенной, почти маниакальной силой, как будто пытаясь завалить камнями вход в пещеру, из которой доносится призрачный звук музыки.
Автобусные поездки стали полем новой, холодной войны. Он и Алиса. Два острова, разделенные океаном невысказанного. Она больше не подходила. Не улыбалась. Она садилась подальше и смотрела в окно, а ее профиль был застывшим и печальным. Он чувствовал ее взгляд на себе – вопрошающий, обиженный, усталый. И каждый раз его охватывала волна такого стыда, что тошнило.
Он видел сверток. Тот самый, что она положила ему на колени. Он валялся под сиденьем, запыленный, затоптанный. Каждый день Лев видел его и каждый день проходил мимо, сжимая зубы до боли.
Неприкосновенный запас, – иронизировала Тень. – Ее последняя попытка купить тебя дешевкой.
Мы должны взять его! – умолял Мальчик. – Это же подарок!
Заминированный объект, – парировал Страж. – Любой контакт – акт капитуляции.
Война длилась десять дней. Десять дней молчания, десяти минут ненависти утром и вечером. Десять дней, в течение которых его бассейн снова наполнился ледяной, соленой водой отчаяния.
На одиннадцатый день случилось непредвиденное.
В автобус вошли не они.
Вошел он. Михаил.
Один.
Без виолончели. Без улыбки. С мрачным, озабоченным лицом.
Лев замер, вжавшись в сиденье. Сердце заколотилось где-то в горле, громко, глухо.
Враг. Соперник. Причина всех его бед. Здесь. В его автобусе. На его территории.
Михаил прошел по салону, его взгляд скользнул по Льву – быстрый, безразличный – и остановился на Алисе. Он подошел к ней, сел рядом, что-то сказал ей тихим, сердитым голосом. Она покачала головой, что-то ответила, ее лицо стало напряженным, закрытым.
Лев наблюдал, затаив дыхание. Его внутренние голоса взвыли в унисон, создавая оглушительный какофонический хор страха, ненависти, любопытства.
Конфликт! – ликовала Тень. – Поссорились из-за тебя! Тебя, жалкого психа!
Он делает ей больно! – плакал Мальчик. – Мы должны защитить ее!
Чужой конфликт, – бубнил Страж. – Не наша зона ответственности. Сохранять нейтралитет.
Лев сидел, как парализованный, и смотрел, как они разговаривают – негромко, но страстно, их лица искажены эмоциями, которые он не мог распознать. Он видел, как Алиса отворачивается, как Михаил хватает ее за руку, как она резко дергается и высвобождается.
И тогда случилось нечто.
Михаил поднялся. Его лицо было красным от злости. Он что-то крикнул ей – громко, так, что несколько пассажиров обернулись, – и пошел к выходу. На ходу он задел ногой тот самый, забытый всеми сверток. Тот подпрыгнул, упал и покатился по проходу прямо к ногам Льва.
Все произошло за секунды. Двери автобуса шипя открылись. Михаил выскочил на улицу и скрылся из виду. Алиса сидела, белая как полотно, сжав губы, стараясь не смотреть ни на кого. А у ног Льва лежал сверток. Как вызов. Как знак.
Автобус тронулся.
Тишина в салоне была звенящей.
Лев смотрел на сверток. Маленький, безобидный, запыленный.
Оставь, – приказал Страж.
Подними, – взмолился Мальчик.
Пни его, – прошипела Тень.
Лев медленно, будто против своей воли, наклонился и поднял сверток. Бумага была шершавой, холодной. Он развернул ее дрожащими пальцами.
Внутри лежала не шоколадка. Не чай.
Внутри лежал маленький, грубо вырезанный из темного дерева цветок. Роза. С острыми, угловатыми лепестками и шипом. И записка. Всего три слова, написанные ее уверенным почерком:
«Как ты ее видишь».
Лев сидел, сжимая в руке деревянную розу, и смотрел на Алису. Она смотрела на него. И в ее глазах не было ни упрека, ни обиды. Была усталость. И понимание. И что-то еще… что-то, что напоминало его собственную, дикую, неукротимую надежду.
Он не улыбнулся. Не кивнул. Он просто поднял розу – так, чтобы она видела, – и сжал ее в кулаке. Шип впился в ладонь, острая, живая боль.
Его бассейн дал трещину. Сквозь толстое стекло прорвалось что-то настоящее. Жестокое. Прекрасное.
Глава 52. Новый пазл себя
Деревянная роза в его ладони была не просто куском дерева. Она была ключом. Проклятым, опасным, но ключом. Ее шип впивался в кожу, и эта боль была якорем, удерживающим его в реальности, где Алиса сидела в десяти шагах от него, а в воздухе все еще висело эхо ссоры с Михаилом.
Он не смотрел на нее. Он смотрел на розу. На грубые срезы, на следы резца, на темные сучки, которые она не стала скрывать, а превратила в часть рисунка. Она видела его не таким, каким он хотел казаться. Она видела его грубым, угловатым, колючим. И приняла это. Превратила в искусство.
Тактильный контакт с объектом высокой эмоциональной значимости, – констатировал Страж, и в его голосе слышалось нечто, похожее на уважение. Физическая боль как инструмент фокусировки. Интересно.
Она вырезала это для нас! – ликовал Мальчик. Своими руками! Видишь? Она не бросила!
Шип, – ядовито заметила Тень, но ее голос был слабее. Помни о шипе. Он всегда будет впиваться. Это ее суть.
Автобус подъезжал к его остановке. Лев поднялся. Его ноги были ватными. Он сделал шаг. Потом другой. Не к выходу. К ней.
Он остановился перед ней, не поднимая глаз, сжав розу в кулаке так, что шип впился еще глубже.
«Спасибо,» – просипел он. Голос сорвался, превратившись в хриплый шепот.
Он не ждал ответа. Развернулся и пошел к выходу, чувствуя, как ее взгляд жжет ему спину.
На улице он не побежал. Он шел медленно, разжимая кулак. На ладони остался маленький красный след от шипа. Как клякса. Как печать.
Дома он не бросился к ритуалам. Он подошел к тумбочке, отодвинул хлам и поставил деревянную розу рядом с фотографией. Три артефакта. Три части пазла, который не складывался в одну картинку. Косатка в прыжке. Улыбающийся ребенок. Грубая, колючая роза. Прошлое. Настоящее. Боль. Надежда.
Он подошел к пианино. Не для того, чтобы издать звук. Для того, чтобы положить руки на клавиши. Холодная слоновая кость обожгла кожу. Он закрыл глаза и представил, как его пальцы – те самые, что только что сжимали шип, – нажимают на клавиши. Не уродливо, не по-дикарски. А так, как это делала его мать. С легкостью. С грацией. С любовью.
Нереалистичная фантазия, – сказал Страж, но без привычной едкости. – Однако моторные навыки могут быть частично сохранены на мышечном уровне.
Мы можем научиться! – воскликнул Мальчик. – Как она научилась резать по дереву!
Чтобы снова опозориться? – фыркнула Тень. – Чтобы она услышала твои убогие потуги и пожалела о своей розе?
Лев убрал руки. Он не был готов. Не сейчас. Но семя было посажено. Оно лежало в мерзлой земле его страха и ждало своего часа.
На следующий день он купил шоколадку. Не одну. Две. Одну – ее любимую, с миндалем. Другую – простую, горькую, для себя.
В автобусе он молча протянул ей плитку. Их пальцы не коснулись. Она взяла шоколад, ее глаза блеснули – не улыбкой, а чем-то более глубоким, более грустным.
«Как роза?» – тихо спросила она.
«Колется,» – честно ответил он.
Уголки ее губ дрогнули. «Так и должно быть. Иначе – не живая.»
Они ехали молча. Но это молчание уже не было войной. Оно было перемирием. Хрупким, зыбким, но перемирием.
Он вышел на своей остановке, не оглядываясь. Но он знал, что она смотрит ему вслед. И он нес эту мысль с собой, как талисман. Как ту самую розу, что теперь лежала у него в кармане, ее шип цеплялся за ткань, напоминая о том, что любая близость – это боль. И любая надежда – это риск.


