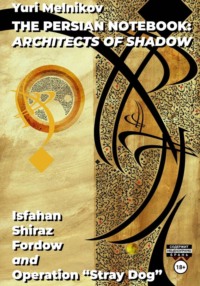Полная версия
Шираз

Юрий Мельников
Шираз
Шираз
Пролог
Зима 1403/2024 года
Иногда, когда бессонница становилась невыносимой, Захра читала, не физику, не отчёты, она читала странные маргинальные блоги западных интеллектуалов, это было как смотреть на другую планету, на планету, которую придумал дядя Джавад в гостиной их старого дома в Ширазе, только он не знал, что придумывает чужое будущее, а они не знают, что живут в чужом прошлом. В ту ночь она наткнулась на статью о какой-то новомодной философии, «Неореакционное движение», «Тёмное просвещение», она читала о призывах к замене демократии на корпоративное управление, о техно-монархии, о традиционных ценностях, очищенных от религии, читала имена: Кертис Ярвин, Ник Лэнд, Питер Тиль, и она не почувствовала ничего, ни удивления, ни страха, только холодную вселенскую усталость, потому что она уже видела всё это раньше, видела на пыльном ковре в гостиной, на пожелтевших газетных вырезках, которые приносил дядя Джавад, не Хоссейн, Джавад, или это был Хоссейн? Память путает имена, как центрифуга изотопы, разделяя и смешивая одновременно. Нет. Всё же Джавад.
Питер Тиль говорит о провале демократии, почти слово в слово то, что папа писал в 1997-м, писал на полях Корана, что было кощунством, но он говорил, что Коран – это тоже код, который нужно взломать, чтобы понять замысел врага, а враг использует наши святыни против нас. Ник Лэнд цитирует идеи о «выходе из системы», это прямо из записок дяди о «хиджре из современности», исход из времени, как Моисей из Египта, только Моисей знал, куда идёт, а мы бежим в никуда, в пустоту, которую сами же создаём. Кертис Ярвин и его «неореакция» – это калька с теории дяди о «возвращении к сакральной вертикали власти», только у дяди вертикаль шла к Аллаху, а у Ярвина – к CEO, к главному исполнительному директору вселенной, который не существует, как не существовал заговор, который искал дядя.
Они даже не знают, они, эти умные люди из Кремниевой долины, не знают, что их «революционные» идеи были придуманы полубезумным полковником и богословом из Шираза, которые искали заговор там, где его не было, и в процессе создали философию, которую потом присвоили те самые люди, которых они считали врагами, или может быть, это я придумала, что они придумали, может быть, в той детской комнате, где я рисовала схемы, соединяя имена и даты, я создавала не карту заговора, а чертёж будущего, и теперь мир строится по моим детским каракулям, как по blueprint, как по схеме центрифуги, которая разделяет уран на изотопы, а жизнь – на правду и ложь, только где правда, а где ложь, когда ложь становится правдой через двадцать лет?
Вчера Насрин спросила меня о дедушке, я сказала, что он погиб в автокатастрофе, когда мне было пятнадцать, простая случайность, водитель грузовика уснул за рулём, но даже произнося эти слова, я слышала голос дяди: «Случайностей не бывает, Захра-джан, есть только узоры, которые мы ещё не умеем читать», и я читаю эти узоры всю жизнь, как читают ЭКГ умирающего сердца, ища в хаосе ритм, а находя только эхо собственного пульса.
Всё началось не в Фордо, и не в Сарове, где я впервые сыграла в World of Tanks, выбрав немецкий Jagdpanther, охотник на танки, охотник на призраков, охотник на себя. Всё началось в Ширазе, в тот год, когда весна пахла розами и предательством, хотя какое предательство, если никто никого не предавал, просто отец умер, а дядя сошёл с ума, или наоборот, отец сошёл с ума, а дядя умер, или они оба живы в параллельной вселенной, где Хатами проиграл выборы, и история пошла по другому пути, по пути, который они чертили на пыльном ковре.
Я была подростком, мне было четырнадцать, или пятнадцать, возраст, когда время течёт не как река, а как мёд, застревая в горле сладкой тошнотой первой любви и первой смерти. Дядя только что вернулся из Тегерана, где консерваторы проиграли выборы, 23 мая 1997 года, 2 хордада 1376 года, даты как координаты в пространстве-времени, точки, где реальность надламывается. Дядя Джавад, да, точно Джавад, сидел в нашей гостиной и раскладывал на ковре вырезки из газет, как пасьянс, в котором каждая карта означала катастрофу, или как периодическую таблицу элементов, где каждый элемент – это способ уничтожить мир.
«Они выиграли, Али, – говорил он моему отцу. – Но это только начало. Настоящая игра впереди».
Я помню, как думала тогда: какая игра? Кто играет? И почему взрослые говорят загадками, как Хафиз в своих газелях, как учитель физики, объясняющий принцип неопределённости Гейзенберга: нельзя одновременно знать положение и скорость частицы, нельзя одновременно знать правду и жить с ней. Нет. Но на самом деле я помню не слова, а запах: розы Шираза, смешанные с запахом дыма от сгоревших газетных вырезок, которые дядя Джавад поджигал, говоря, что истина горит ярче в огне. И я помню, как пепел оседал на ковёр, создавая узоры, которые я позже научилась читать как карты будущего.
Теперь я знаю ответ, или думаю, что знаю, что почти одно и то же в мире, где JagdpanFer_83 оказался мной самой, пишущей себе письма из прошлого в будущее. Мы все играем. Каждый сам с собой. И правила этой игры мы узнаём, только когда уже проиграли.
Но может быть, в этом и есть победа – проиграть так красиво, что поражение становится искусством, как газели Хафиза, как розы Шираза, как атомный распад, превращающий материю в чистую энергию света.
Четырнадцать лет. Двадцать семь лет назад.
Глава 1. День выбора
2 Хордада 1376 г. (23 мая 1997 г.)
В тот майский день Шираз, казалось, затаил дыхание. Воздух, густой от аромата цветущих померанцевых деревьев, вибрировал от невысказанного ожидания. Это была не просто пятница, священный день отдыха и молитвы. Это был день выбора, и само это слово, почти забытое, произносилось на кухнях и в чайханах то шёпотом, то с лихорадочным блеском в глазах.
Захра шла между родителями, и её рука терялась в большой, тёплой ладони отца. Ей было почти пятнадцать, возраст, когда ты уже не ребёнок, но ещё не взрослый – неудобный, пограничный возраст, когда ты видишь и понимаешь больше, чем положено, но ещё не имеешь права голоса. В прямом и переносном смысле.
Избирательный участок располагался в школе, куда она ходила в начальные классы. Знакомый двор, обычно пустой, сегодня был полон людей. На стенах – плакаты кандидатов, выцветшие от майского солнца. Лицо Хатами улыбалось мягко, почти извиняющееся. Натек-Нури смотрел строго, как учитель, готовый отчитать нерадивого ученика.
Очередь вилась длинной, пёстрой змеёй, и в ней стояли все – женщины в строгих черных чадорах и в ярких, модных платках-русари, мужчины в строгих костюмах и в потёртых джинсах. Это был не просто народ. Это были два Ирана, которые сегодня встретились в одном месте, чтобы решить, в какую сторону повернётся их общая река.
Её родители тоже были двумя разными Иранами.
– Хатами – это будущее, Али, – сказала утром её мама, когда разливала чай, и пар поднимался между ними, как прозрачная стена. – Он говорит о диалоге цивилизаций. О том, что можно быть верующим и современным одновременно.
– Модернизация без веры – это вестернизация, Роксана. – Отец намазывал масло на лаваш с той же методичностью, с какой писал свои богословские труды. – Натек-Нури понимает, что традиция – это не оковы, а корни.
Да, её мать, Роксана, врач, женщина с тонкими, нервными пальцами хирурга и глазами, в которых всегда жила лёгкая, ироничная печаль, не скрывала своих надежд. Для неё Хатами был не просто кандидатом. Он был символом – возможности дышать чуть свободнее, читать книги, которые не нужно прятать, говорить с миром на одном языке.
Её отец, Али, богослов, человек, чьё лицо казалось высеченным из слоновой кости, был воплощением традиции. Он шёл голосовать за Натек-Нури, за привычный, упорядоченный мир, где у всего есть своё место, а главным законом является слово Пророка. Но его консерватизм был лишён фанатизма. Он был сложным, как узоры исфаханской мечети.
– Ты правда думаешь, что Рушди заслуживает смерти? – спросила Роксана, когда они уже стояли в очереди, и её голос был тихим, но настойчивым.
– Я думаю, что он написал плохую, лживую книгу, – так же тихо ответил Али. – Но фетва… Нет. Аллах не давал нам права быть его палачами. Если человек заблуждается, его нужно не убивать. С ним нужно спорить. Убеждать. Словом, а не мечом. Иначе чем мы отличаемся от тех, с кем боремся?
Захра слушала их, и ей казалось, что она слушает не просто разговор мужа и жены, а вечный спор двух половин персидской души – поэзии и закона, сомнения и веры.
Дяди Джавада с ними не было. Он был в Тегеране. «На всякий случай», как сказал он вчера по телефону. Захра знала, что «всякий случай» в мире дяди, сотрудника ВЕВАК, означало возможность бунтов, арестов, хаоса. Дядя Джавад не верил в выборы. Он верил в узоры, которые плетутся в тени.
Они вошли в здание школы. Запах хлорки, гул голосов, шорох бюллетеней. Родители разошлись к разным кабинкам для голосования, как расходятся корабли в море. Захра осталась ждать в коридоре, у стенда с детскими рисунками. Она смотрела на наивные, яркие картинки – дома, солнца, цветы – и чувствовала себя бесконечно старой. Она уже знала, что мир устроен гораздо сложнее. Что за каждым солнцем прячется тень. И что сегодня, в этот полный надежд день, её родители, которых она любила одинаково сильно, опустят в урну два бюллетеня, которые полетят в разные стороны, как две стрелы, выпущенные в будущее.
Она наблюдала, как женщина в чёрном чадоре берёт бюллетень, её пальцы дрожали, как у пациента с болезнью Паркинсона. А рядом стоит девушка в ярком платке, которая улыбается, как будто это не день выборов, а свадьба. Отец объяснял: «Аллах дал нам свободу воли, но свобода – это тяжёлая ноша, которую не каждый готов нести». Теперь она знала: эта тяжесть давила на каждого, кто в тот день пришёл в её школу, чтобы бросить свой голос в будущее.
Я помню, или мне кажется, что помню, или я придумываю, что помню, как пахли розы в тот день, они пахли не розами, а временем, которое сворачивалось, как молоко в чае, если добавить лимон, но мы не добавляли лимон, мы добавляли кардамон, и отец говорил, что кардамон – это память о рае, а мама смеялась и говорила, что рай – это больница без пациентов, что было шуткой, но не смешной, потому что больница без пациентов – это morgue, морг, но она говорила это по-персидски — سردخانه (сардкхане) – холодный дом, и я думала: почему смерть холодная, если ад горячий?
Хатами на плакате улыбался, как улыбается учитель физики, когда объясняет, что свет – это и волна, и частица одновременно, что невозможно, но это так, и я думала: может быть, президент – это тоже и волна, и частица, и поэтому мы не можем точно знать, где он находится и куда движется, принцип неопределённости, который я ещё не изучала, но уже знала, потому что некоторые вещи мы знаем до того, как узнаём.
Очередь двигалась, как движется ртуть в термометре – медленно, неохотно, но неизбежно, и я считала людей: семнадцать, тридцать четыре, шестьдесят восемь, удвоение, митоз, деление клеток, которое может быть ростом, а может быть раком, и доктор Роксана, моя мама, но я не называла её мамой, когда думала о ней как о докторе, доктор Роксана знала разницу, но не говорила, потому что некоторые знания опасны, как изотопы урана, о которых я прочитала в энциклопедии, U-235 и U-238, один взрывается, другой нет, но выглядят одинаково.
Дядя Джавад не приехал, и его отсутствие было громче его присутствия, как тишина громче звука, когда ждёшь взрыва, но я не знала, что жду взрыва, я думала, что жду мороженого с шафраном, которое отец обещал купить после голосования, но мороженое растает, как растает этот день, оставив только пятна на памяти, жёлтые, как шафран, красные, как розы, чёрные, как чадор женщины, которая стояла перед нами и пахла горем, хотя горе не пахнет, или пахнет, но мы не имеем слов для этого запаха.
Я не могла голосовать, мне было четырнадцать, или пятнадцать, нет, четырнадцать, точно четырнадцать, потому что пятнадцать мне исполнится следующей весной, 25 Бахмана, в тот год, когда отца больше не будет, но я этого ещё не знала, или знала, потому что время в Ширазе течёт не линейно, а по спирали, как вода в раковине, когда выдёргиваешь пробку, и всё устремляется в одну точку – в слив, в небытие, в день, когда машина врежется в машину, и металл встретится с металлом, как встречаются атомы в ядерной реакции, освобождая энергию, которая разрушает всё вокруг.
Но в тот день, 2 хордада 1376 года, я только чувствовала, как что-то начинается, что-то большое и страшное, как чувствуешь приближение грозы по тому, как затихают птицы, и даже розы перестают пахнуть, готовясь к удару, который неизбежен, как победа Хатами с семьюдесятью процентами голосов, что было невозможно, но случилось, как свет, который одновременно волна и частица.
Глава 2. Алгебра поражения
6 Хордада 1376 г. (27 мая 1997 г.)
Эйфория была почти осязаемой. Она висела в воздухе Шираза, как сладкая пыльца цветущих акаций. Победа Хатами была не просто победой. Это было чудо, нарушение законов политической физики. Семьдесят процентов. Цифра, которую шёпотом повторяли на базарах и в университетских аудиториях. Цифра, которая означала, что невидимый, молчаливый Иран вдруг обрёл голос. Мать Захры, Роксана, ходила по дому с улыбкой, которую Захра не видела уже много лет. Она ставила на проигрыватель пластинки с запрещённой дореволюционной музыкой, и звуки скрипки, казалось, исцеляли старые раны в стенах их дома.
Но через несколько дней, когда из Тегерана вернулся дядя Джавад, в дом вошёл другой воздух. Холодный. Пропитанный запахом столичной тревоги.
Дядя Джавад не разделял всеобщего ликования. Он сидел в гостиной, пил чай маленькими, нервными глотками, и его глаза, обычно полные ироничного блеска, были похожи на два темных, сухих колодца.
– Семьдесят процентов. Двадцать миллионов голосов, – сказал он, обращаясь к отцу Захры. – В Тегеране – карнавал, молодёжь на улицах празднует, как будто мы выиграли войну. Женщины сдвигают платки, открывая волосы. Музыка из магнитофонов – западная музыка! Они празднуют не победу Хатами. Они празднуют поражение системы.
– Не преувеличивай, Джавад, – мягко возразил Али, отец Захры. – Система показала гибкость. Способность к изменениям. Это признак силы, не слабости. А народ… народ сделал свой выбор. Аллах дал им это право.
– Народ? – дядя Джавад усмехнулся. – Народ – это глина. Вопрос в том, кто гончар. Ты видел, как радовались в западных посольствах? Они открывали шампанское. Они празднуют нашу слабость.
Он достал из портфеля пачку газет, бросил на ковёр. «Салам», «Хамшахри». Заголовки кричали о «весне свободы» и «диалоге цивилизаций».
– Диалог… – процедил Джавад. – Ты помнишь, чем закончился диалог Горбачёва с Западом? Великая империя, наш «Малый Сатана», развалилась на куски за несколько лет. Он говорил о «гласности» и «перестройке», а получил унижение и нищету. Он хотел реформировать систему, а стал её могильщиком. И теперь Советский Союз – не противник, а униженный проситель, пасынок «Большого Сатаны». Они хотят провернуть тот же трюк с нами.
– Но мы – не Советский Союз, – сказал Али. – У нас есть вера.
– Вера – это крепость. Но они не собираются штурмовать её. Они собираются подкупить стражников и открыть ворота изнутри. Они предлагают нам соблазн – демократию. Как будто это панацея от всех бед.
– Демократия лучше тирании шаха, – заметил отец.
– Безусловно. Но и у неё есть свои яды, – дядя Джавад наклонился вперёд, его голос стал тише, доверительнее. – Ты читал Карлайла? Англичанин, девятнадцатый век. Он говорил, что историю двигают не массы, не парламенты. Ее двигают герои. Исключительные личности. Пророки, поэты, завоеватели. Наполеон. Он говорил о «культе героев». Что один человек, наделённый волей и гением, может изменить мир, исполняя божественное предначертание. Он возвышается над толпой, над её мелочными интересами.
– «Герои и почитание героев», – кивнул Али. – Странно, что ты вспомнил британского реакционера.
– Не реакционера. Провидца. Он понял главное: демократия – это власть посредственности. Толпа никогда не выберет лучшего. Она выберет того, кто обещает ей то, что она хочет услышать.
– И куда привёл Наполеон Францию? – мягко спросила Роксана. – На Ватерлоо. А Кромвель? К реставрации монархии. Герои Карлайла все закончили крахом.
– Но они изменили мир! Тот же Запад! – Джавад повысил голос. – А что изменит Хатами? Он говорит о «диалоге цивилизаций». Диалог! С теми кто хочет нас уничтожить! Это как если бы овца предложила волку обсудить меню на ужин.
Он посмотрел на Роксану.
– Мы свергли шаха, потому что он возомнил себя таким героем, но за ним не было Бога. А что, если они предложат нам нового «героя»? Харизматичного, улыбчивого, говорящего правильные слова. И народ, уставший от трудностей, пойдёт за ним, как дети за гамельнским крысоловом. И этот герой приведёт нас не в рай, а в новую, ещё более изощренную форму рабства. Рабства у Запада.
– Да я же согласен! Демократия, конечно, лучше шахского режима, при котором мы выросли, – спокойно сказал Али. – Но ты прав в одном – она может быть опасна. Особенно когда люди голосуют сердцем, а не разумом.
– Вот! – Джавад оживился. – Именно это я и пытаюсь объяснить. Хатами – это троянский конь. Запад праздновал его победу больше, чем сами иранцы. BBC, CNN – все трубят о «новой эре». Почему? Что они знают, чего не знаем мы?
– Может быть, они просто рады, что мир становится менее опасным местом? – предположила Роксана.
Джавад посмотрел на неё с жалостью:
– Сестра, для них мир станет безопасным, только когда в нём не останется никого, кто может сказать «нет» их порядку. Хатами – первый шаг. Потом будет второй, третий… И однажды мы проснёмся в стране, где дочери не носят хиджаб, сыновья не знают намаза, а в университетах преподают Дарвина вместо Корана.
– Ты рисуешь апокалипсис из-за выборов, – заметил Али. – Разве вера наша так слаба, что не выдержит испытания свободой?
– Свобода… – Джавад встал, подошёл к окну, за которым цвёл гранатовый сад. – Знаешь, что я понял в Тегеране? Есть два вида заговора. Явный – когда враги приходят с оружием. И скрытый – когда они приходят с идеями. Второй опаснее. Против пуль есть броня. Против идей – только другие идеи. Но откуда их взять, если лучшие умы заняты «диалогом»?
Захра, сидевшая в углу с учебником по алгебре, подняла глаза. Она не до конца понимала смысл слов, но чувствовала их вес. Она видела, как уверенность на лице отца сменилась тенью сомнения. Дядя Джавад не спорил. Он сеял семена. Семена страха.
Я делала домашнее задание по алгебре, квадратные уравнения, x² + px + q = 0, и слушала, как дядя Джавад говорит о процентах, семьдесят процентов, и я думала: это 7/10, несократимая дробь, как несократимо то, что произошло, двадцать миллионов голосов, 20 000 000, число с семью нулями, как семь кругов ада у Данте, которого я не читала, но знала, что есть семь кругов, потому что семь – особенное число, семь дней недели, семь нот, семь цветов радуги, хотя на самом деле цветов бесконечность, просто мы договорились видеть семь.
Дядя говорил о Горбачёве, и я вспомнила его фотографию в старой газете, пятно на лбу, похожее на карту несуществующей страны, и подумала: может быть, все реформаторы отмечены чем-то, какой-то печатью, как Каин, но что отмечало Хатами? Его улыбка? Его очки? Или что-то невидимое, что видел только дядя Джавад?
Мама улыбалась, и её улыбка была как интеграл – она собирала все маленькие радости в одну большую, а папа был серьёзным, как дифференциал – он разбивал большие вопросы на маленькие части, чтобы понять каждую, но дядя, дядя был как мнимое число i, квадратный корень из минус единицы, невозможное, но необходимое для решения некоторых уравнений.
Карлайл, они говорили о Карлайле, и я представила старого англичанина с бородой, хотя не знала, как он выглядел, но все старые англичане в моём воображении были с бородами, как Дарвин, которого нельзя преподавать в школе, но я читала о нём в энциклопедии, естественный отбор, выживает сильнейший, но дядя говорил о героях, которые сильнее сильнейших, которые меняют правила игры, как в шахматах, если вдруг ферзь решит ходить как конь, что невозможно, но Наполеон сделал это, и Кромвель, и Пророк, мир ему, но можно ли ставить их в один ряд?
Троянский конь, дядя сказал «троянский конь», и я подумала о деревянной лошади, полной солдат, но как президент может быть лошадью? Или лошадь – это его улыбка, а солдаты – это идеи, которые прячутся за улыбкой, ждут ночи, чтобы выйти и открыть ворота города? Но какого города? Шираза? Тегерана? Или города в нашей голове, который мы считаем неприступным?
Семьдесят процентов, я снова вернулась к этому числу, 0.7 в десятичной дроби, 7×10⁻¹ в научной нотации, но почему это пугало дядю? В математике 70% – это явное большинство, это консенсус, это почти что единогласие, но дядя видел в этом не единство, а раскол, как будто 70% «за» означало, что есть невидимые проценты «против», которые не голосовали, не пришли, не поверили в саму возможность выбора.
BBC праздновала, CNN праздновала, и я представила, как где-то в Лондоне и Нью-Йорке люди в костюмах пьют шампанское за победу Хатами, хотя алкоголь харам, но они не мусульмане, им можно, и может быть, в этом проблема – они радуются тому, чему мы должны радоваться сами, но почему их радость пугает дядю больше, чем их гнев?
Папа спросил про веру и свободу, может ли вера выдержать испытание свободой, и я подумала: это как спросить, может ли лёд выдержать испытание огнём, он может, но перестанет быть льдом, станет водой, потом паром, потом исчезнет, но разве исчезновение – это поражение, или просто переход в другое состояние?
Я решала квадратное уравнение, и у него было два корня, x₁ и x₂, два ответа на один вопрос, которые существуют одновременно, и может быть, Хатами был одним корнем, а Натек-Нури другим, и они оба правильные, просто находятся по разные стороны от нуля, положительный и отрицательный, но в квадрате они дают одно и то же.
Глава 3. Магия чисел
16 Хордада 1376 г. (6 июня 1997 г.)
Две недели спустя воздух Шираза, казалось, стал легче. Что-то неуловимо изменилось, словно с города сняли тяжёлое, невидимое покрывало. По вечерам на проспектах и в парках стало больше молодёжи. Они не делали ничего запретного. Они просто были – сидели на скамейках, смеялись чуть громче, чем раньше, и их смех смешивался с музыкой, доносившейся из открытых окон машин. Девушки носили платки чуть свободнее, обнажая пряди волос, непокорные, как первые ростки травы, пробивающиеся сквозь асфальт. Надежда, казалось, была почти физической субстанцией, солнечными пятнами на асфальте, бликами на витринах магазинов.
В ту пятницу Захра гуляла по городу с матерью. Отец остался дома, сославшись на работу над статьёй. Они шли по аллее, и Роксана, обычно сдержанная, сегодня была почти по-детски счастлива. Она покупала Захре сладкую вату, рассказывала смешные истории из своего студенчества.
– Посмотри, – сказала она, кивая на группу студентов у фонтана. – Они словно проснулись.
Но Захра видела не только их. Она видела и тех, кто наблюдал. Мужчин в неприметных рубашках, сидевших поодаль с газетами в руках, но их взгляды были направлены не на буквы. Они были повсюду, как тени, которые отбрасывало яркое июньское солнце.
– У нас в школе старшие классы как будто сошли с ума, – сказала Захра, глядя на группу студентов, споривших о чём-то с жаром и восторгом. – Они говорят о поэтических вечерах, о новых газетах. Говорят, скоро даже разрешат концерты.
– Дай Бог, – Роксана поправила солнцезащитные очки, и в их, как в зазеркалье, на мгновение отразилось небо. – Надеюсь, слова дяди Джавада останутся только словами. Просто мрачной сказкой для взрослых.
Она произнесла это тихо, почти как молитву. Молитву о том, чтобы реальность оказалась проще, чем её описывал брат.
Когда они вернулись домой, их встретила тишина. Но это была не та умиротворяющая тишина, которая бывает, когда отец работает. Это была плотная, наэлектризованная тишина. Из гостиной доносились приглушенные голоса. Отец и дядя Джавад.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.