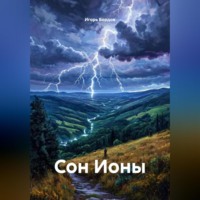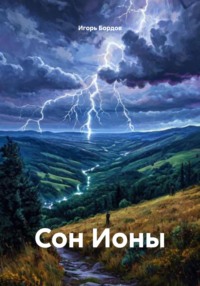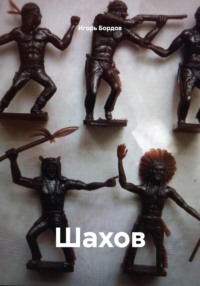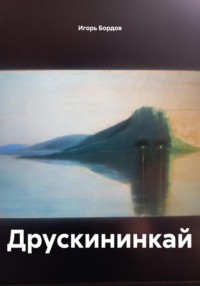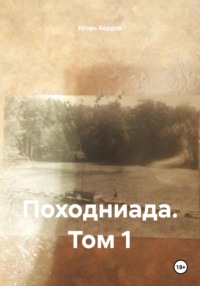Полная версия
Походниада. Том 2

Игорь Бордов
Походниада. Том 2
Пролог
Ну, вот и новость! Опять Походниада.
Хорошо. Что нас ждёт? Игорь Разумов поступает в медицинский институт. Пока каникулы, опять уезжает в деревню, снова ловит щук. Уходит в спонтанный поход с Ярославной. Есть и фотография, где они с Венчуком едят лапшу, сидя на брёвнышке.
Потом – первый институтский колхоз. Лот с дочерьми и содомляне в конце XX века. Игоря выворачивает – он делается взрослым. И ему странно в этой шкуре.
(Кстати, а почему я так пишу? – Только что прочитал «Берлин, Александерплац. Повесть о Франце Биберкопфе». Там тоже Дёблин над своим героем трунил. Но я же не Франц Биберкопф, – я Игорь Разумов! – Поэтому, переходим на первое лицо.)
Итак, я поступил в мединститут города К… . С Тимофеем Вестницким и Мишкой Шигарёвым. Это непросто. Это сложно. Даже поступление, не говоря уж об учёбе. В то время, как я продолжаю не понимать, что́ есть жизнь, и почему она так сурово смотрит в мою сторону. И тут же меня ждут новые друзья, новые любови, новое жеманство жизни. Я учусь на врача. Странно.
Уже в сентябре ко мне в институт, в фойе, приходит Дина. Это же о чём-то говорит?..
Тут у нас, во втором томе, сколько походов будет? – Смотря как развезётся со всей этой начинкой институтской. Анатомия. Общага. Физиология. Снова химия-физика в первую сессию, – о, ужас! Маринка Постнова, конечно. Опять любовная депрессуха! Ух-х.
Общага. Яков Берман. О, Яков Берман!! Дивный персонаж. Уж он-то научит меня всему, уж он-то всё мне про жизнь расскажет.
А, да, как же! – Цой же умер…
История 1. Ирина Ярославна. Неизвестно куда, случайно. Август 1990
1.1. Перед экзаменами
Экзамены были в начале июля. Вдруг стало понятно, что, как бы я ни любил биологию, необходимо, чтобы мне её преподали. Для поступления. Здесь был «блат». Даже более весомый, нежели пьяная физичка. Ибо трезвая биологичка важнее. Её трезвость делает всё дело.
Жила биологичка на Перегонном. Там же почти, где тётя Рита, только по ту сторону реки Ветки. Тётю Риту и биологичку разделял «Парк 1917 года».
Сначала был дом, где жила биологичка. Квартира то ли на втором, то ли на третьем этаже, куда било, било душно-насыщенное июньское вечернее солнце. Она спрашивала меня, в этом солнечном битии (ласково, биологичка была молода), знаю ли я генетические задачи?.. Собственно, было нетрудно… – доминантный, рецессивный ген; голубые либо карие глаза. Меня даже удивляло: неужели так просто? Мягко. Трезво. Молодо-биологически. Без физического выблёвывания физических знаний в банальный, надрывный унитаз?
Потом я шёл к тёте Рите, сквозь Парк 1917 года. Когда-то тут революционеры клали свою грудь на алтарь пролетарской свободы, царская полиция стреляла им в грудь, а теперь я иду, дитё восторжествовавшего пролетариата, сквозь парк их имени, к тётке-географичке, которая поможет мне стать ещё одним врачом.
Длинная асфальтовая дорога. Потом река Ветка. Тепло июньского вечера. Комары только навостряются, ждут. Подходя к реке, я мыслю о купании. Люди единичные. Снимаю с себя штаны, рубашку, кроссовки, носки. Плавок нет, – иду купаться просто в трусах. Какая-то решительность. Заныр. Пара-тройка гребков под водой. Всплывание. Кроль, бешено, до середины водоёма. Потом вдруг резкий переворот на спину – тут я ощущаю своё тело, тощее, но почему-то своё и даже где-то по-своему упругое, ловкое, взрослое, и меня даже наполняет подобие гордости – я взросл! На спине можно плыть без колеса руками и громыхания, но я делаю так раз пять или шесть, громко, как вызов жизни. Потом подныриваю-перекувыркиваюсь обратно, к берегу, где моя одежда валяется на траве. Сам по себе. Брассом. (Я до сих пор, идя плавать в водоём, применяю только эту формулу почему-то. Нырок-всплывание-кроль-на спину-брасс-обратно.) Я не думал про институт. Поступать, конечно, надо было. Но мне не казалось это настолько уж важным. Меня как бы нет в жизни, и, в то же время, я есть, – вот такой вдруг взросло-упругий в воде.
Пришёл к тёте Рите, к её домику за гигантским кустом сирени. Сообщил, что был на занятии. Что-то про оплату. Отпустила. Строгая. Моя мама была, как я понял, вечно пренебрегаема ею. Младшенькая. Иди, сопля, не мешайся!
Уехал домой. Ещё засветло. В автобусе подумалось: глупо было всё-таки орать «Стерха» на выпускном…
1.2. Поступление
Потом был день первого экзамена. Биология.
Мы пришли рано, с Шигарёвым и Вестницким. На подходе к колоннам стояла уже группа парней. У одного, небольшого ростиком, в костюме (купленном, видимо, под выпускной, как у всех нас), зад квадратно оттопырен учебником, спрятанном шпаргалочно. Мишка Шигарёв рассмеялся в асфальтово-росистой, маломаши́нной июньской заре на него, на его квадратный зад. Меня этот Мишкин смех не расслабил, а расстроил: ну что тут, – глупость!.. Но Мишка даже подошёл к тому парню, стал общаться, знакомиться. Я подумал: ну почему так?.. Шигарёв же больше меня с Вестницким хочет поступить, а отвлекается на дурь… С другой стороны, он, Шуга, тем и хорош: для него в мире главнее что-то конкретное, искреннее, оттопыривающееся.
Знобило волнение. Мы, группка парней, руки-в-карманах, съёжившись на прохладном, ярком солнце, постояли так минут десять у угла института, подле колонн, у угла перекрёстка. Потом двери приоткрылись кем-то невидимым, и мы повлеклись в неизвестность на суд, между колонн, огибая их кто справа, кто – слева.
К какому-то столу, регистрация, уже шумно, мимо шёпотно-торжественно. На третий этаж, во вторую аудиторию, полумрак, полутишина. Пожалуйста – билет. Взял. Присаживайтесь. С зазором в метр от соседа.
– Только листок, ручка и билет. Заполните шапку вверху листка, – отчётливый голос молодой преподавательницы, строго-доброжелательная, чужая, – уже не школьная учительница. – Пятнадцать минут!
Билет поразил своей неожиданной простотой. Мне даже подумалось: не может быть!, какой-то подвох тут, – задача наипростейшая, классификация – и того проще.
Написал за пять минут, перепроверил. Подвоха сыскать не смог. И как «васюкинский любитель», уверенный в своём поражении, пошёл с листочком сдаваться «гроссмейстеру».
Часов в 12 ночи раздался телефонный звонок. Я проснулся. Мама взяла трубку в зале (приглушённо):
– Угу. Да. Да. Ой! Как хорошо!! Спасибо… Спасибо.
Повесила трубку и пришла ко мне в комнату, обняла меня сонного:
– Молодец, Гонечка! «Пятёрка» у тебя по биологии!
– Да?! – поразился я.
Звонила биологичка-репетитор. А она была непростая – член экзаменационной комиссии. Я так до сих пор и не знаю: была ли та «пятёрка» всамделишной или «блатной»? Но я порадовался за себя. Шаг за шагом моя значимость устремлялась как бы помимо моей воли в некую гору. Почувствовав это, я сладко уснул.
Через пару дней – физика. На сей раз звонить моей маме ночью было некому: Мария Валентиновна, если и числилась когда-либо в какой-либо экзаменационной комиссии, наверняка была оттуда вытурена за пьянку. Результаты экзаменов вывешивались прямо на наружную дверь главного входа в институт. Мы, троица, явились к одиннадцати часам. «Шигарёв – 3, Вестницкий – 3, Разумов – 4». Я ликовал, мои друзья нахмурились. Проходной балл плавал между 11 и 12-ю, и мне достаточно было написать сочинение на любую удовлетворительную оценку. Тимоха же с Мишкой и по биологии имели тройбаны, поэтому, единственное, что их, возможно, спасло бы – «пятёрки» за сочинение. Лица моих друзей были темны.
К сочинению я никак не собирался готовиться. Было известно, что одна из тем будет произвольной, и уж таланта-то мне хватит литературного чего-нибудь там накропать!
Экзамен проходил в 1-й аудитории, устроенной на манер цирка («греческие традиции», Гиппократ, знак змеи и чаши на фронтоне над сценой). Выставили темы. Что-то то ли про Гоголя, то ли про «Молодую гвардию». И свободная тема – о любой книге. Не помню о чём я писал (надеюсь, не о «Последнем из могикан», – может быть о Лермонтове); помню свою браваду, я же писатель, я умею. Покосился на Вестницкого с Шигарёвым. Они списывали. Узнали темы? – видимо, да. Ну и хорошо. Но переживалось за Шигарёва. У него же с грамотностью совсем беда, хоть и читает много. И почерк у них обоих – «курица лапой». То ли дело – мои вензельки, моя ровность, чёткость, полёт… Сдавая листок, я был уверен в «пятёрке».
Пришли в институт вечером ждать вывешивания оценок. Мы сидели в сумрачно-электрическом фойе, сгорбленные, праздные, напряжённые, равнодушно-угрюмые, – человек двадцать. Иногда кто-то вставал, прислонялся к стене, стоял так минут десять, разглядывая обувь, – опять садился на скамью. Лениво переговаривались. С Шигарёвым и Вестницким разговорилась высокая девушка, Ира (Сулемова). Ладная, лицо круглое, броское, но с хитрецой, прищуренное. Когда их разговор попритих, я высказал громко для Иры, оглядывая сюрреалистичный вид институтского фойе:
– Как всё это странно, да?
Ира обернулась кругом, через своё плечо, и, воззрившись на меня, отрезала:
– Ничего тут нет странного! Абитуриенты ждут, когда вывесят результаты экзамена.
Она просекла меня: вшивый романтичек! (Очередная Света Безъязыкова, прагматичка, может быть только чуть-чуть поглаже: не суйся, дурак, ко мне со своим «моим» лесом!) Я призаткнулся. Ушёл к стенке. Мне было непонятно: ведь все до одной девушки должны быть романтичны. Они для этого и даны. А корчат из себя деревяшек, всё у них по полочкам! Откуда только берутся такие?
Мы не дождались. В какой-то момент в фойе на середину выстучала каблуками преподавательница (кажется, та же самая) и громко объявила, что результаты экзамена будут вывешены завтра в 10 утра. Мы разбрелись.
Наутро приплелись к вывеске: я с приподнятыми плечами, Шуга с Вестницким – с опущенными и трепещущими. Там толпа. Шигарёв продрался. После паузы – его победный вопль: «Есть! Есть, Вестницкий! «Пятёрки»! И у тебя и у меня!!» Они обнялись. Едва не прыгали. Тимоха сиял.
– А я чего? А у меня-то чего? – рассортировался потерянный я.
– Да, да. А у Разумова-то чего?
– Да я не видел. Да чего у него может быть…
– Отойди, я проверю. Ты врёшь-поди, – отодвинул Вестницкий Шугу.
– Ага, не веришь, гад! – скрежетнул зубами злой Шигарёв.
Как раз толпа разредилась. Протолкался и я. Перечень фамилий. Не по алфавиту.
– А меня нет…
– Да как нет? – Вон ты. «Тройка» у тебя, Разумов.
– Где?
– Вон. Разуй глаза.
– Поступили! Все трое поступили! – ликовал Шигарёв. Обнимались теперь втроём.
– Блин, почему «тройка»-то? – протянул нудно я, когда мы разлепились и шли обратно домой вдоль колонн.
– Дурак ты потому что, Разумов, – буркнул сквозь зубы Шигарёв. – Списывать надо было, а не выпендриваться.
Тимоха благодушно толкнул меня распяленной ладонью в плечо.
– Полно тебе, Игорь! Поступили главное, забудь.
– Все трое, все трое, – сотрясал восторженно Шуга спазмированными ладонями перед животом.
Тимоха, смеясь, толкнул и его в плечо.
«Да, они списали», – думалось мне. – «Но почему у меня «тройка»-то?»
В тот момент мою эйфорию упрямо расхолаживало то, что не одна Телегина, моя школьная вредная литераторша, но и другие неведомые мне специалисты по бумагомаранию, не ценят мой талант. Сговорились. Травят. Да что́ им!!
Так Вестницкий и толкал нас в плечо всю дорогу. Поступили.
1.3. Эпизоды лета 1990
Эпизод 1. Выпускной альбом
Нам вручили выпускные фотоальбомы. На левом развороте большая фотография владельца. На правом – большой фотомонтаж с лицами учителей и учеников 11-го «А». Вкрапления к-ских пейзажей. Площадь Ганькиной: революционерка-мученица пронзительно смотрит на север. Проспект Фрунзе – аллея текстильщиц-героинь, дом Дины в перспективе, загорожен другими домами, виден ресторан «Дружба». Дом Моделей, «тусовка» едва-едва не попала в кадр.
27 одноклассников. Лишь половина из них в течении последующих многих лет с той или иной частотой возникали в моём поле зрения. И только пятеро присутствовали в нём более или менее постоянно. В последние годы я один-два раза в год навещаю Вестницких. Мы сидим на кухне. Они потчуют меня своей изысканной снедью, я приношу громоздкую бутыль «вискаря». Приходят тоже Шигарёв с Васиным. Прозвище «Шуга» к Шигарёву уже не подходит – он сделался Михалом Александровичем. На последние посиделки Васин явился при знатной бороде.
Влад Сотов умер лет семь назад, кажется, от рака поджелудочной. Здесь же, на фото, он – первый из красавцев. У всех нас, парней, наметились усишки, но только у него – более-менее внятно. Взгляд у Влада что у твоих прибалтийских советских кинозвёзд; вот вырезал бы фотку – и на постер какого-нибудь романтического детектива, с Абдуловым соперничать. Но умер. В 40 с небольшим.
Намедни тоже видел и Венчука, а в другой раз и Полозова боковым зрением. Но и в тот, и в другой раз я проповедовал с единоверцами, останавливаться было неудобно, и я переводил проекцию фигуры одноклассника на сетчатке с боковых полей на слепое пятно. С Венчуком я не общался с 2001 года, а с Полозовым всегда, по сути, было только «привет-привет», не больше. Васин показывал на наших посиделках видео Венчука: как он отжимается 50 раз в свой 50-й день рожденья (символизм, видимо, невозможно вытравить из него). Но на темени – плешь. Если бы я не проповедовал, я бы остановился и обнял его. Хочется обнять Венчука и поговорить с ним, хотя бы и на его угрюмо-сентиментальном, заиндевело-инфантильном наречии.
Света Безъязыкова смотрит вбок (фотограф почему-то заставлял всех смотреть абы куда; прямой взгляд только у Васина, Бородатыча, Шигарёва и Лены Васенцовой – той, что сочеталась с темнокожим, из тех, что хоть и встречаются в К… по студенчеству, но всё же достаточно редки). Взгляд у Светы Безъязыковой кроткий и печальный, почти потерянный. Я уже рассказывал, как однажды, курсе на 3-м встретился с ней на остановке «Улица Прокопьевская» – она была горда, насмешлива и красота её как бы расплавилась в пространстве, не существовала в нём, – немотивированная гордыня вытравила её красоту из реального мира.
Марина Лысенко работала массажисткой в 8-й поликлинике в нулевых (когда и я там работал). В школе она была тихой, но жизнь тоже приклеила к левому углу её рта ровную, самоуверенную надменцу́.
Рыжеволосая Таня Грошева однажды пришла на мой физиотерапевтический приём году этак 2002-м и я, по обыкновению, стал ей проповедовать. Но Таня сделалась филологиней, ей про всякое такое «околофилософское» палец в рот не клади. Когда я цитировал ей из Иоанна «Бог есть Дух», она сказала: «О! Вот видишь – «Дух»!» – подразумевая, видимо, что бог плавно растворён в мире и не надо, пожалуйста из него Личность делать! Ещё меня почему-то смутило, как она делает в слове «Иов» ударение на «и». Кажется, именно тогда я поставил некий свой самонадеянный проповеднический крест на филологах как классе. Что-то вроде: мнят себя необоримо всезнайками, и при этом даже ударения у них на некоторых словах уверенно-специфичные.
Оля Петрова то и дело вырастает передо мной как пациентка, даже вот на днях канючила направление какое-то. Причём странно: когда я её повстречал в конце нулевых после долгого перерыва, я даже был уверен, что она не из моего «А», а из «Б» класса, и очень удивился, увидев её в некий момент в этом выпускном фотоальбоме.
Про прочих нечего сказать.
Учителей поместили в коллаж лишь избранных, причём трое и вовсе у нас не преподавали. Валентина Дмитриевна Золева, англичанка, приходила зачем-то репетиторствовать к моему сыну. Из жёсткой дамы она сделалась какой-то улыбчиво-суровой (с трендом к улыбчивому полюсу) и тихо-смиренной передо мной, некогда её застенчивым учеником, а теперь значимым дядей; для образа конца XIX века ей не доставало только чёрной вуали.
Израильтянин Шмаковский разве что поседел да приуменьшился почему-то ростиком, а так такой же, встречается на бывшей Аллее Текстильщиц под руку с женой – уныло-милый (впрочем, может быть, мило-унылый) моцион пожилых. Когда мы ехали в микроавтобусе в смешанно учительско-родительском составе на выпускной моего сына, и я обмолвился вскользь о праздности и суетности происходящего, Владимир Семёнович жёстко со мной не согласился. Для него, как наставника молодёжи, каждый новый выпускной – значимая веха. Ещё одна порция подструганных – недоотшлифованных, конечно, – но ладно подструганных (!) членов общества впрыснута в мир).
На фото владельца альбома мы видим юношу с, как уже было упомянуто, наметившимися усиками, в трёхцветно-полосатом лёгком свитерочке поверх белой мужской сорочки и галстучка. Причёска поблёскивает лаком. Подбородок узкий, рот маленький. Правый глаз с немного асимметричным прищуром. Тягость жизни кожу поверх musculis corrigator supercilii (мышц, сморщивающих бровь) ещё не наморщила. Выражение глаз задумчиво-аморфное. В целом, физиономия недурна. Я недоумённо огорчился и даже приобиделся в душе на Якова Бермана, когда он, рассматривая через полгода наши новогодние фотографии, только Юрика и Шугу обозначил красавцами-мужчинами, прочие же были классифицированы им как к красавцам отнюдь не относящиеся.
Эпизод 2. Юрик на «тусовке»
В какой-то момент мы оказались на «тусовке» вдвоём с Юриком Стебловым. Был ранний вечер. Под дубками. Напротив всё той же 8-й поликлиники. Верхом на спинке скамейки.
Тогда уже случился сигаретный кризис, и мы курили папиросы. «Казбек». Плоская, квадратная пачка, снежные игрушечно-треугольные, грубо-бумажные вершины, голубое небо и чабан – всё просто. Но там – пустые гильзы, их надо складывать. Я знал, что дед Сеня делал один прижим с конца и – чуть дальше – один поперёк. Но кто-то (не Юрик) объяснил мне, что правильнее делать много перпендикулярных прижимов – как бы для безопасности (аналогия фильтра), ну и для красоты, конечно. Хотя я понимал, что это – баловство, это по-детски. Кажется, Юрик не делал гармошку на папиросной гильзе. Ибо был «крут»: уж курить, так по-взрослому. Но меня не осуждал: кури как хочешь, какое моё дело?
Выпускной миновал, но то наше «сближение» в выпускном пьяном туалете осталось, я чувствовал, для нас – чуть-чуть, брезгливо-выпендрёжно – для меня и Юрика.
Линия разговора каким-то образом загнулась на «женщин», на отношения с «женщинами». В некий кульминационный момент интонации Юрика вдруг сделались чарующе похожими на интонации деда Сени, когда он говорил, будучи в подпитии: «Сколько танков подо мной горело!» – о войне. Дед не любил говорить про войну, но однажды, вот, его прорвало при мне. Родители и брат сидели за столом, дед на стуле, я – на полу. И он сказал это тихо, напевно, наверное, почти с той же интонацией, с которой разворачивал когда-то гармошку у колодца. Вот и Юрик теперь:
– Ох-х, какие же вы все по сравнению со мной сосунки, хы, – хыкнул, чуть-чуть примотнул головой, затянулся, выдохнул дым в аллею, в поликлинику, под сочувствующими дубками.
Я покосился на Юрика. Я знал и видел, что он попросту бахвалится, но он же и правда был много опытнее меня, Венчука, Вестницкого, Шигарёва и других. Стало быть, я должен был считаться с этим, и слушать что он сообщает мне. Как учитель. Я помалкивал, курил свою инфантильную многоскладчатую гармошку, уважительно слушал. (У ног Гамалеила.)
Юрик стал рассказывать про свои первые отношения с некой дамой, много взрослее его, Юрика. Я не помню, что он говорил, но мне представилось позднее закатное лето, более юное, чем нынешнее, но недоступное уже ни Юрику, ни, тем более, мне; утоптанная, пыльная тропинка в лесу, романтичный юный Юрик и его опытная дама на этой тропинке. Всё это высвечено тёплым закатом и облагорожено песней, столь часто исполняемой в то время на «тусовке»: «Помнишь, девочка, гуляли мы в саду», «хохотали до упаду фонари», «помнишь, девочка, я веник приволок, – это были твои первые цветы» и подобное.
Я всё же спросил про Дину. Навёл вопросом. Видимо, всё же, электричество дружбы, шершавое, шумящее как радио, общее нашими папиросами – моей гармошкой и его двойным прижимом – лениво протянулось между нами. Ездили машины, даже не 90-годовые, а раньше – советские «жигулёнки», троллейбусы. Я как будто бы ждал от него, опытного, благословения на любовь, – при этом Дина не рассматривалась, как некий конкретный объект. Он скривился ещё больше правой щекой. До того его щека была скривлена концепцией «любви», а теперь возникла тема «Дины», – и складки на Юриковой щеке углубились глубоко, а скула полезла вверх-вверх-вверх. Я сидел слева и не видел, но чувствовал. Юрик вдруг заговорил зло:
– Дина… Она щас с Бармаканом… Ну и хорошо! Подходят они друг другу. Два пенька!.. – он не курил тогда, когда говорил это. Мы просто сидели. Лучше бы мы курили в тот момент! Я любил Дину и слова Гамалеила расстраивали меня. Но я делал скидку на его «мудрость» и его простоту.
Юрик выхаркнул соплю вправо, вбок.
– А как разлюбить?.. – спросил я Юрика (наша папиросная дружба дошла в тот момент до того, что такого рода вопрос не вырывался из нутра моего в мерзкой пыли смущения, – вопрос был гладок. Юрик тоже не смутился. Напротив, такая постановка вопроса его разогрела.)
– Как?! – обернулся он ко мне с вывернутой, злой нижней губой. – Да просто! – снова взгляд в поликлинику. – Я такое делал. Надо думать просто о её мерзи. Вот её руки: они же сухие, как будто всё время кошку мацаешь! И ещё от неё ссаньём воняет, – и Стеблов потянулся рукой за «Казбеком». Достал. Вынул папиросу, сжал два раза, вставил в рот, убрал снова пачку в карман. Пауза. Но, видимо, тема задела Юрика за живое. Не зажигая папиросу, с холостой папиросой в правом углу рта, он вытянул круглые, корявые, к небу ладони немного перед собой и с чувством потряс ими. – Ну правда, сухие-сухие!!.
Видимо, в Юрике что-то боролось само с собой, чтобы не наговорить больше и не ранить меня сугубо, и без того раненого. (Впрочем, он не ведал о глубине моей раны. Да и не хотел.) Я попросил сигарету. Юрик угостил. Встряхнул коробок. Зажёг спичку, предложил мне. Я отказался – у меня есть свои спички.
Папиросы отличались от сигарет. Их дым был едок, жёсток, почти что каменен. Мне было неприятно курить эту дрянь. Но я курил.
Эпизод 3. Водоёмы
Мы оставались детьми. Даже Юрик, несмотря на свою «многоопытность». Ради друзей я не торопился в этот год укрыться, как обычно, в деревне. А в городе что делать? Мы укатывали на различные, окружающие город, водоёмы купаться да рыбачить. Мы ещё не сделались заправскими пьяницами и не помышляли только о том, как бы взять пива и ухрюкаться. Жизнь и так была хороша.
Сели на велосипеды и к солнечному вечеру примчались на затопленные карьеры возле Утиного Луга, населённого непонятно кем пункта в южном пригороде К… (там через год упадёт пассажирский самолёт и погибнет моя однокурсница, летящая откуда-то с Минеральных Вод). Стеблов с Венчуком ныряли с разбегу, а Шигарёв с Вестницким встали угрюмо с удочками на другом берегу. Даже не угрюмо, а основательно, снобистски: они знали, ка́к это – удить рыбу. У меня не было удочки, но завидно мне было совсем чуть-чуть. Я стоял за их спинами. Иногда косился на беснующихся Юрика с Андрюхой. Вечернее солнце ластилось. Шигарёв с Вестницким и здесь являлись тандемом, – теперь рыбачьим. Я обратил внимание на то, как они поддёргивают удилище в конце заброса, чтобы удочка уходила в воду точечно и максимально бесшумно. Мне подумалось: кто-то из них первый освоил этот приём, а другой потом «передрал». Клевали небольшие карасишки, лениво.
Пришли мокрые купальщики, усмехнулись на рыбарей и умчались снова кувыркаться в воде. Тимоха с Шугой ушли в свой тихо-надменный процесс, игнорируя меня, игнорируя всё прочее.
Тогда же, может быть, спустя пару дней, дядя Юра (Тимохин папа) отвёз нас на своём необычном грузовичке к какой-то тоже то ли речке, то ли запрудинке возле их (Вестницких) даче, и мы рыбачили там. Тимоха с Шигарёвым сели на водяном раздолье, а я ушёл в деревья – уже отчасти опытный нюх вёл в меня в места, подобные тем, где когда-то Вадим, мой брат, да и я в удачное время, обнаруживали клёв. И у меня стало клевать. Караси, конечно. Диковатые, ленивые. Крупнее, чем на Утином Лугу. Прознав, что у меня клюёт, пришёл Шигарёв и встал рядом. Заговорил со мной примирительно – они же с Вестницким гордо игнорировали меня как способного рыбака – вежливый, потихоньку расшаркивающийся гость. Может быть, Шуга думал, что я вцеплюсь в «своё место» и стану огрызаться (так мне почему-то на миг показалось), но я был дружелюбен и открыт, – мне хотелось делиться счастьем. И я даже осторожно возрадовался в сердце своём, увидев, что клёв у Шуги стал живее, чем у меня. Хотя это чувство и было перемешано снова с банальной, кислой завистью.