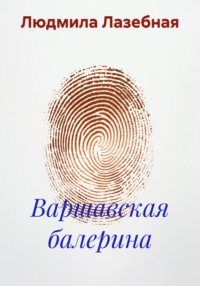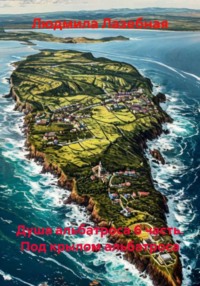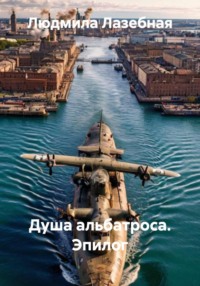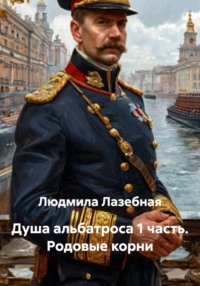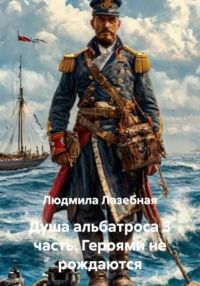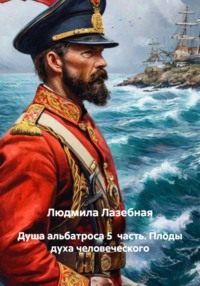Полная версия
Батицкие. Опалённое древо

Людмила Лазебная
Батицкие. Опалённое древо
Часть 1
Осиное гнездо, или Крепость духа
Посвящаю забытым российским героям
Первой мировой войны – Великой(1) войны с Германией 1914–1918 гг.1.
…Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают Его. Мф. 11:12
Последние дни февраля одна тысяча девятьсот четырнадцатого года радовали петербуржцев легким морозцем, делающим вы-
павший ночью снежок мягким и нескользким. Ранние солнечные зайчики, весело проскальзывая сквозь утренние облака, сигналили лучами в окна домов, словно играли с кем-то невидимым в прятки.
Синички, порхающие с дерева на дерево в заснеженном и по-зимнему сонном сквере, наперебой звали на улицу праздновать Масленицу. Город просыпался. Тонкий ванильный аромат свежевыпеченных блинов, вырвавшись наружу из распахнутой двери парадной доходного дома Правошинского на улице Пушкинской, 19, уже устремился дразнить носы ранних прохожих, то тут, то там появлявшихся в центре города…
Морщась от солнечного зайчика, заглянувшего за вымытое до зеркальной чистоты стекло одного из высоких арочных окон, украшенных со стороны фасада каменным ажуром, старый седой слуга Тимофей с интересом наблюдал за происходящим во дворе. Вдруг он радостно заулыбался, заметив, как к жилому зданию бодрым, уверенным шагом подходит высокий, элегантный господин лет пятидесяти с небольшим. То был съёмщик лучшей и самой просторной квартиры этого престижного дома, выстроенного в стиле эклектики, – профессор математики Императорского Санкт-Петербургского университета Сергей Васильевич Батицкий, проживавший здесь с семьёй уже более двух десятков лет. На протяжении столь длительного времени, словно старый курьерский поезд, следовавший строго по расписанию, он ежедневно в это время возвращался к себе домой после традиционного утреннего променада. Ранние прогулки заменяли профессору гимнастику, которую Сергей Васильевич терпеть не мог. Другое дело – пройтись поутру! Тут тебе и воздух свежий, и мысли в движение приходят следом за ногами и устремляются вперед, всё дальше и дальше, укладываясь в логические цепи и строгие красивые формулы. Дабы увеличить расстояние, но не зайти по задумчивости в незнакомое место, профессор сам придумал трижды проходить путь от дома до памятника Пушкину и обратно. Это было удобно, поскольку можно было гулять и размышлять, ни о чём не беспокоясь.
Пребывая с утра в сумрачном настроении и привычно размышляя о чем-то своем, важном и замысловатом, он даже не заметил помощи верного Тимофея, подоспевшего поддержать тяжелое зимнее пальто с роскошным бобровым воротником, пока барин просовывал руку в левый рукав. Надев шляпу и захватив услужливо протянутую тросточку, Сергей Васильевич вышел из дома ещё затемно.
Сейчас, уже трижды пройдясь до памятника великому поэту, чье имя с 1881-го года носила эта тихая и уютная петербуржская улица по распоряжению российского самодержца Александра III, довольный и нагулявший аппетит профессор Батицкий возвращался домой. Ещё с гимназической поры одним из любимейших его занятий являлись одинокие пешие прогулки по укромным дорожкам и тропинкам родного тенистого парка, исхоженного им вдоль и поперек в пензенском поместье Городище, где ранее постоянно проживала семья Батицких.
Приметив однажды эту странность за сыном, отец семейства, уважаемый в Пензенской губернии потомственный дворянин и статский советник Василий Эрнестович Батицкий, организовал за сыном невидимый присмотр в лице отставного солдата – героя последней Турецкой войны Тимофея, человека верного и надежного. Было на ту пору фронтовому инвалиду не более тридцати пяти лет. Работать в поле он не мог по причине, потерянной на войне левой ноги. А вот для заботы о барчуке годился, поскольку характером походил на старшего брата или доброго воспитателя. Умел и разговор завести с молчаливым молодым барином, и заботу проявить мастерски, ненавязчиво. Много лет прошло с тех пор. Совсем старым стал верный Тимофей. Всё чаще волнуется его доброе сердце, когда барин задерживается на своих утренних прогулках. «А как жа ни пирживать? Вон намедни на Лиговке на кучера двое напали, деньги отняли, говорят, будто чуть жив остался. Балуют, варлыганы! Вовсе Бога не боятся, аспиды! А всё от чаво? А от того, што позволительно стало баловством-то заниматься. То революцию, то погромы учиняют! Не живется покойно паразитам!» – рассуждал верный слуга, сидя у окошка на кухне и пристально глядя через дорогу на тротуар, по которому должен был возвращаться барин, как по привычке он его называл, несмотря на давно уже отменённое крепостное право.
Сергей Васильевич Батицкий, статский советник и член-учредитель математического общества, недавно получивший звание заслуженного ординарного профессора на кафедре чистой математики в своём университете, был уже давно человеком семейным и солидным, отцом троих детей. Но и по сей день он не изменял своей давней юношеской привычке – нагуливать аппетит по утрам.
«И ведь какой упорный характер! С малолетства, как скажет, так и сделает», – рассуждал в своих мыслях старик Тимофей. Тем временем на противоположной стороне тротуара в третий раз показался силуэт барина…
– Варварушка, – позвал старик, – готовь скорей блинков да чего там ещё, барин нагулялси, вяртаца изволит! – с трудом поднимаясь со своего наблюдательного пункта, ласково, с пензенским протяжным говором сказал он. – Пайду, кыль встричать! А ты смятанки да вареньица на стол поставь! Маслина на дворе. «Сытно Маслину встретишь, сытно и год проживешь», так-то наш народ говорит! – пояснил старик, направляясь в прихожую открывать барину дверь, не дожидаясь звонка. Такой был у него обычай.
– Ох, Тимофей Иваныч, как же солнечно сегодня! Вон как снег блестит, слезу прошибает! – бодро сказал барин, подавая трость и шляпу верному своему «оруженосцу» и с его помощью снимая громоздкое зимнее пальто.
– Доброго утречка, Сергей Василич! Славный денек обещаица!
Как прогулка? – спросил старик.
– Хорошо, братец! Ох и хорошо! Морозно, бодрит! – потирая замерзшие руки, ответил барин и поспешил в свой кабинет.
– Видать, надумал чавой-то! Щас запишет и придет к завтраку. Мешать нельзя! – привычно, себе под нос пробормотал Тимофей и направился на кухню. – Ты бы, Варварушка, кофей-то укрыла чем, а то ить простынуть могёт, – отдал он приказание молодой и проворной поварихе, пару лет назад привезенной из родной пензенской деревни.
Варварушка науку свою знала и в советах не нуждалась, но из-за доброй любви к старику слушалась его беспрекословно. Улыбчивая, зеленоглазая и чуть раскосая, невысокого роста, она «шаром каталась» по кухне, споро делая свои дела. Удовольствием было наблюдать, как она, повязав платок поверх уложенных вокруг головы темно-русых толстых кос, подпоясавшись фартуком, ловко шинковала капусту, свеклу, а то и сердитый лук… Это была настоящая мастерица, ловкая и шустрая, как и её покойная матушка.
– Ну, Варварушка, голубушка, что приготовить сподобилась на сегодня? – бодро заходя в столовую, спросил барин.
Варвара поставила на стол еще дымящиеся паром толстые мордовские блины на опаре, тонкие блинчики, фаршированные мясом, другие – с яйцом и луком, с грибами и картошкой, капустой, просто сложенные кулечком и поджаренные до румяной корочки на масле, а ещё – отдельно в вазочке принесла блинчики с яблочным вареньем и просто с яблоками…
– Ох, батюшки! Да у нас, никак, блинный день!
– Маслина, Сергей Василич! – поклонившись и одарив барина доброй улыбкой, ответила Варвара и отправилась на кухню.
– Доброе утро! С праздником! – заходя в столовую, сказала барыня и, подойдя к мужу, поцеловала его в лоб.
– Доброе, доброе! Как ваше самочувствие, дорогая Татьяна Петровна? – поцеловав руку супруге, поинтересовался Сергей Васильевич.
– Благодарю, свет мой, прекрасное! – нежно улыбнувшись и пристально посмотрев на мужа влюбленными карими глазами, сказала барыня.
– Раз так, то предлагаю устроить сегодня масленичные катания с детьми на тройке за городом. Как вы, не против? Погода чудесная!
– Как изволите. Вы же знаете, как я люблю наши совместные увеселения! – искренне улыбнувшись и принимаясь за завтрак, ответила Татьяна Петровна.
– Должен отметить, вам совершенно к лицу это нежное вологодское кружево! – слегка дернув бровью, с любовью добавил Сергей Васильевич.
– Доброе утро, папенька, доброе утро, маменька… – заходя в столовую, наперебой поздоровались дети: болезненного вида худой и слегка сутуловатый мальчик лет тринадцати в очках и веселая голубоглазая девочка с русыми локонами, чуть младше своего брата по возрасту.
– Как бы хорошо было, если бы и Антоша смог вот так-то приехать к нам на праздничные гулянья, – сказала барыня между делом, кладя блин на тарелку дочери.
– Папа, а можно будет показать вам, чему я научилась? Учитель верховой езды хвалит меня, говорит, что мой Серко меня слушается и понимает.
– Конечно, милочка, нам будет интересно!
– Тогда завтра, перед праздничными гуляниями, и покажу, – радостно посмотрев на мать, добавила девочка.
– Может быть, до весны отложим смотрины? Коню тоже скользко сейчас, мало ли чего недоброго! – с материнской тревогой сказала барыня.
– И правда, Марусенька, зачем испытывать судьбу? Наступят теплые деньки, растают снег и лед, выедем всей семьей за город, и там ты покажешь свои умения. А пока морозно и скользко, подумай о своем любимце, вдруг ногу потянет или ещё что… – поддержал супругу Сергей Васильевич.
– Ну хорошо, хорошо, тогда весной, – слегка расстроившись, согласилась девочка. – А мне так хотелось показать, как я держусь в седле…
– А завтра мы поедем все вместе на общественные гулянья. Масленица в столице, пропускать такой праздник – большой грех!
– Отлично! Там, наверное, и горки будут? – поинтересовалась девочка, мгновенно позабыв недавнее свое огорчение.
– Ну конечно! – радуясь отходчивости дочери, ответила барыня.
* * *
Масленицу в доме Батицких любили. Рассказывая накануне своим младшим детям об этом празднике, Татьяна Петровна вспоминала и деревенские народные сказки, которые знала с детских лет, и исторические сведения, приведенные в новых журналах, кои в большом количестве Батицкие получали по подписке прямо на дом, расположенный на углу Пушкинской улицы и Кузнечного переулка, неподалёку от Невского проспекта. Татьяна Петровна очень любила вечерние беседы при свечах в их уютной петербургской квартире, когда перед камином в гостиной собиралась вся семья. По ее разумению, дети должны были знать и помнить не только свои родовые дворянские корни. Не менее важно изучать историю родного Отечества, которая как нельзя лучше в столице государства отражалась даже в самих названиях старинного Санкт-Петербурга и знаменитой улицы, где младшие Батицкие появились на свет. А ещё русскому человеку важно почитать церковные и народные праздники. Ведь Масленица – один из древнейших и любимейших праздников на Руси, изначально отмечавшийся перед двадцать вторым марта – днем весеннего равноденствия. Рассказы маменьки под треск и всполохи берёзовых дров в камине, тихую хрустальную мелодию стоявших на нём старинных часов создавали сказочную, завораживающую атмосферу.
Вот и накануне она рассказала своим чадам сразу несколько интересных и поучительных историй. Так ребята узнали, что в давние времена Новый год по славянскому календарю начинался в марте – с Масленицы. А спустя века этот праздник начали отмечать двадцать четвертого февраля, когда чествовали «скотьего бога» Велеса. И лишь после принятия христианства Масленицу «привязали» к церковному календарю и стали праздновать в последнюю неделю перед Великим постом. Появилось новое значение: повеселиться и вдоволь наесться перед семинедельным говеньем, прогнать зиму и ускорить наступление весны.
– Вот-вот, то-то наши слуги в эти дни все такие веселые! – сказал обычно молчаливый и грустный Николя, с малых лет, как и его отец, увлеченный математикой. – Вот, коли посчитать, сколько блинов съедено за предпраздничную неделю и в день самого праздника в городе, то можно будет вычислить, сколько на них потрачено муки, масла и всяких других продуктов? И ведь это всё – благотворительность! А если учесть по всей стране?! Государь жалует своим подданным бесплатное угощение! Вот народ и усердствует безмерно.
– Все бы тебе подсчитывать и учитывать, Николя! Экий ты сухарь! – воскликнула сестра Мария, или Марусенька, как звал её отец. – А вы, маменька, не обращайте внимания, рассказывайте дальше.
– Ну что же, Николя прав, большие затраты на праздник, но ведь на то он и праздник! Да и народ его любит и ждет.
– Народ, маменька, ждет бесплатных угощений, весёлых театрализованных уличных зрелищ и баловства! – настойчиво добавил Николя.
– А почему же принято сжигать именно женское чучело? – с любопытством спросила Марусенька.
– Потому что образ богини Марены, веками воплощавший силу плодородия, позже, ближе к нашему времени, стали отчего-то связывать с зимним холодом и мраком. Может быть, потому, что по восточнославянской мифологии ее персонаж был связан с сезонными обрядами умирания и воскрешения природы? Она считается богиней зимы, ночи и смерти. Вот и придумали огнем ее прогонять.
– Интересно, как так происходит, что народ без чтения книг, без изучения истории всё помнит, знает и что-то меняет, делает своим обычаем и следует ему? – озадаченно добавила девочка.
– А сейчас, в наше время, остается ли в памяти людей, что Масленица как-то связана с будущим урожаем и вообще с годом? – спросил Николя.
– Думаю, что, конечно, народ всё помнит, иначе и в городах, и в деревнях по России-матушке не устраивались бы в этот день гулянья и кулачные бои, чтобы сила бойцов переходила к новому урожаю хлебов. Вот когда я была такого же возраста, как вы, няня мне рассказывала, что есть одно особое правило, которое нельзя нарушать: в танцах и хороводах должны участвовать только высокие молодцы, чтобы «лён уродился высокий».
– Нашего Николя бы взяли танцевать, он у нас вон какой высокий и красивый, да, мама? – задумчиво спросила Марусенька.
– Конечно! И Николя, и папу, и нашего Антона… У нас все мужчины в семье высокие и красивые, – улыбаясь, с легкой грустью ответила Татьяна Петровна.
Уже год и три месяца прошли с того дня, как старший их сын, красавец и умница Антон, или, как в семье его называли ласково, Тоша, окончив Военно-топографическое юнкерское училище в Санкт- Петербурге, уехал служить подпоручиком на границу России с Восточной Пруссией. Его редкие письма с графическими рисунками пейзажей маменька хранит в своей комнате в шкатулке. Порой, отложив книгу или вязание, она достает их и, перечитывая, невольно вспоминает своего шаловливого первенца.
Несмотря на бытовавшие в свете негласные правила, Татьяна Петровна, к ее великому счастью, замуж вышла по любви и дорожила своим мужем и детьми, как орлица, защищающая свое гнездо от всяких невзгод. На это прекрасное и искреннее чувство не смогла повлиять даже их разлука с супругом, по причине его отъезда за границу на целых три года для продолжения обучения. Она была всегда уверена в муже и знала наверняка, что, пока он изучает высшую или абстрактную алгебру, у него действительно не будет времени на семью и детей. Так что лучше не мешать ему. И только когда он вернулся, одухотворенный идеями известных профессоров-математиков: Эрмита, Вейерштрасса и Кронекера, когда получил звание «магистра чистой математики», у них родился милый мальчик Тоша – первенец, темноволосый красивый мальчуган с синими глазами, как у Татьяны Петровны. Присвоение степени доктора математики совпало с рождением Николя, возможно, поэтому мальчик, живая копия отца – породистый, кареглазый блондин, тоже так удивительно самозабвенно увлеченный этим предметом… А когда мужу было предложено совместить с основной деятельностью преподавание на Высших женских курсах в Технологическом институте Санкт-Петербурга, родилась дочка – Марусенька. «Возможно, и нет тут никакой параллели, но всё-таки интересные совпадения», – так часто думала Татьяна Петровна, оставаясь одна.
* * *
Наступило солнечное воскресное утро Масленицы. С самого утра вся семья готовилась к праздничным гуляньям на Марсовом поле, где, по обыкновению, проводилась большая ярмарка. Там же ежегодно сжигали одетое в белое платье и украшенное лентами соломенное чучело. Было время, когда один богатый петербургский купец по фамилии П. строил на Неве напротив сената огромные горки, высота которых достигала почти тридцати метров. Спуск с такой горы могли позволить себе только совершенно бесстрашные и состоятельные люди. Стоило такое катание баснословных денег. Но русский человек азартен, и уж если он войдет в раж, ничто его остановить не сможет. Хорошо, что такого накала страстей и бахвальства в семье Батицких не наблюдалось, поэтому Татьяна Петровна была спокойна.
В этот раз, к удовольствию всех желающих, горок построено было целых три. Каждая имела свою высоту и крутизну, но все заканчивались выкатом на лед Невы.
– Маменька, а мы будем кататься на горках? – поинтересовалась Мари, послушно поворачиваясь перед няней, подвязывавшей её крест-накрест для сбережения тепла тонкой пуховой шалью поверх пальто.
– Может быть. Как папа решит, – ответила Татьяна Петровна, выходя в открытую дверь на ярко освещенную февральским солнцем улицу.
* * *
– …Скорее, помогите! – кричал внизу под горкой паренек, скатившийся вдвоем с девочкой и не успевший отвернуть свои салазки от несшихся с вершины на огромной скорости санок других ребят, следовавших за ними.
На всем ходу ещё одни тяжелые деревянные сани врезались в вывалившуюся в снег девочку, широкими полозьями обезобразив ее лицо и сломав шею. Затем сани перевернулись и ещё какое-то время по инерции скользили в сторону Невы без людей. Свалившиеся в снег были в ужасе, понимая, что произошла трагедия. Позднее никто не мог толком рассказать, как всё случилось. Страх будто закрыл всем глаза. Всё произошло в мгновение ока. На снегу, распластанная и обезображенная, лежала Марусенька.
…Рядом столпился народ. Некоторые махали людям, стоявшим на горе. Другие в ужасе смотрели на окровавленное тело. Молодой человек в форме гимназиста, подбежав, пытаясь уловить дыхание и нащупать пульс у лежавшей в кровавом снегу с неестественно запрокинутой головой девочки, знаком руки приказал всем замолчать.
– Она не дышит! – сказал он. – Я не чувствую её дыхания, пульса тоже не чувствую! Но, может быть, я просто не чувствую…
– Мама! – изо всех сил закричал мальчик, сидя перед девочкой на коленях.
– Нужно скорее доктора! Немедленно! Возможно, она просто без сознания! – воскликнул гимназист. – Нужно положить её в санки и быстро поднять наверх.
С горы бегом, кубарем и на санках сорвались несколько человек. Падая и снова вставая на ноги, профессор Батицкий вместе со всеми скатился вниз, предчувствуя беду, а может, испытывая желание чемто помочь пострадавшим. В тот момент он не думал, что случившееся могло произойти с его детьми: на горке было слишком много катающихся детей и взрослых.
Перед ним лежала бездыханная его Марусенька.
– О боже! – простонал он и без сил опустился перед дочерью на колени.
– Папенька, я не виноват! – кричал сквозь слезы Николя. – Прости меня, Марусенька! Папенька, прости меня! – трясясь всем телом, бормотал мальчик, казалось, теряя рассудок.
Девочку положили в санки и подняли в гору.
Прибывшая на место карета неотложной помощи зафиксировала смерть. Марусеньку увезли в морг.
Жизнь в семье Батицких разделилась на «до» и «после»…
* * *
Прошли важные сорок дней после похорон дочери. Семья Батицких соблюдала траур. Сергей Васильевич совершенно ушел в работу. Татьяна Петровна старалась держать себя в руках, поскольку сын Николя находился в сильном стрессе, и его психическое здоровье с каждым днем становилось всё хуже. Он не выходил из дома, в основном лежал в кровати лицом к стене и отказывался от еды. Посещать гимназию у него не было сил и желания. Врачи диагностировали у мальчика нервное истощение и прогрессирующую шизофрению. На дальнейшем обучении, как и на изучении математики, был поставлен крест.
Надежды на выздоровление и восстановление доктора не давали.
– Барыня, Татьяна Пятровна, дозвольте обратиться, – однажды сказал Тимофей, искренне разделявший страдания со своими господами.
– Конечно, что вы хотите? Говорите, – безразлично ответила та.
– Я вот чаво думыю, у нас в соседней диревни бабёнка живет одна…
– Тимофей Иванович, голубчик, избавьте меня от таких разговоров! – нетерпеливо ответила Татьяна Петровна. – Если вы желаете вернуться в деревню и устроить свою старость, то, пожалуйста, переговорите с Сергеем Васильевичем. Он даст вам расчет и поможет с дорогой. Сейчас туда и на поезде можно доехать. Никаких проблем.
– Ой, нет, матушка, штой-то вы удумали! Рази я энтова хотел, нету! Я, вишь, вот чаво надумыл вам обсказать. У нас энта бабёнка сглазы умыват, страхи, испуг всякый, порчи и всякия проклятия воском и свинцом снимат. К ней народу… с утра до ночи, с ночи до утра уйма ходють. Вот помню, маво шурина дочурку бык мирской напужал. Чуть не померла от страху-то. Апасля и вовсе слова молвить не могла. Пачнет говорить слово, а всё мычить, и никак ей, стал быть, слова из себя не выдавить. Вот пошли они к энтой бабке-то, в ту пору она ишо молодкой была, да, вишь, все спокон веку их, таких-то знахарок, бабками у нас кличут. Ну и вот, бабка та пошептала чавой-то на водицу родниковую, непитую, сделала свое дело, позадях девчушки вот эдак встала да глядь, как зашипит чаво-то… Девчонка-то вздрогнула с испугу, а она ей: «Напужалась?» А та в ответ чисто, без запинки: «Ага, напужалась, малость». И заплакала… Потому как поняла, что снова говорить зачала путём. Пришли они до дому, девчушка цельныя сутки спала, как убитыя. А проснулась – как рукой всё сняло. Говорит, как молоток, и песни поёт, и частушки подговариват… А запомнила-то тольки, как энта бабка подкову лошадиную на огне докрасна накаляла. Вот такия дяла… – Старик смотрел задумчиво и вопрошающе на барыню.
– Ну и для чего вы всё это мне рассказали? – спросила Татьяна Петровна.
– Дык, можа, свозили бы вы Николая-то Сергеича к энтой бабке? Извелся, вишь, весь он с испугу-то. Испуг в ём, не иначе как. Такие страдания в себе держить. Как бы до бяды не дошло! – шепотом пояснил Тимофей.
– Чушь – это всё! Знахарство – большой грех! Врачи говорят, окрепнет организм – и всё наладится. Благодарю вас, Тимофей Иванович! – сказала барыня, а сама задумалась над его словами.
* * *
Наступил июнь. Несмотря на ставшие привычными за многие годы домашние правила, Батицкие не поехали в свое пензенское имение на лето. Татьяна Петровна заботилась об ослабевшем Николя. Как мать она ещё не имела душевных сил покинуть малышку Марусеньку, похороненную на Смоленском кладбище. Каждый третий день бедная женщина отправлялась туда побыть подле могилки единственной дочери, такой энергичной и весёлой при жизни. Памятник в виде грустного ангела, установленный над могилой, будто оживал в её присутствии, так казалось Татьяне Петровне.
– Здравствуй, Марусенька, солнышко мое! Снова я пришла к тебе. У нас всё по-старому. Николя хандрит. Прости его, прошу тебя! Он никак не может смириться с твоей смертью. Он винит себя, что не спас тебя. Мне горько, что я ничем не в силах ему помочь. Папа много работает. Мы практически с ним не общаемся. Твой Серко долго грустил по тебе, и вот папа решил продать его твоему учителю верховой езды. Надеюсь, ты не против. Скоро обещает приехать Антон на несколько дней. Правда, мне не верится. Его гарнизон переводят в отдаленную крепость, где-то на небольшом острове посреди непроходимых болот Гродненской губернии. Это совсем маленькая старинная крепость, и папа говорит, что она основана ещё в восемнадцатом веке, чтобы защищать железнодорожную переправу где-то через реку Бобры и проходы к транспортному узлу польского города Белосток. Скоро её ещё лучше укрепят, Антон написал, что там уже достраиваются новейшие линии обороны, а то совсем не могу спать, думая, что наш любимый Тоша в опасности. Доченька, ангел мой, если ты меня слышишь, защити своих братьев от всего плохого, от злых людей, недоброжелателей, от болезни душевной и телесной, от лютой смерти, прошу тебя! Я знаю, что такие слова можно обращать только к Господу Богу, Его Матери – Пресвятой Богородице и всем святым. Мое материнское сердце подсказывает мне, что именно ты теперь и есть наш ангел-хранитель, и ты поможешь мне в моей молитве.
Вдруг над могилкой пронесся ветер, потушив горевшую лампадку. Татьяна Петровна невольно оглянулась. Позади, на ветке сирени, сидел белый голубь. Что было потом, она не помнила. Очнувшись от голосов, раздававшихся где-то вдалеке, она открыла глаза. Рядом стояли пожилая дама в трауре и мужчина лет сорока, низко склонившийся к Татьяне Петровне с нюхательной солью и пытавшийся привести её в чувство.