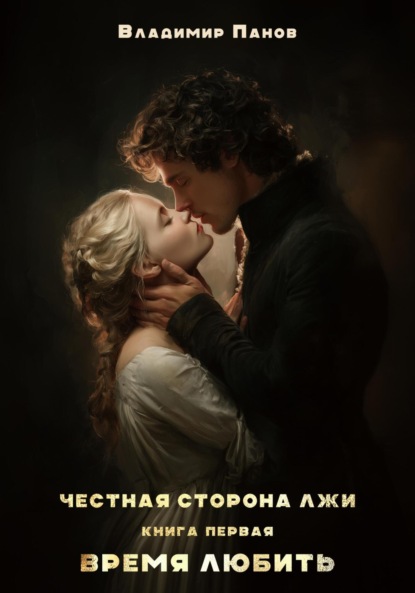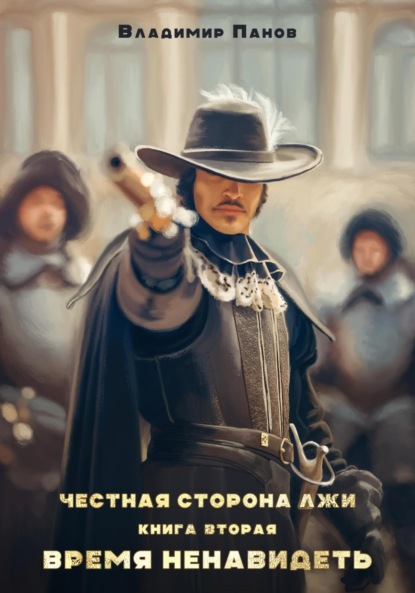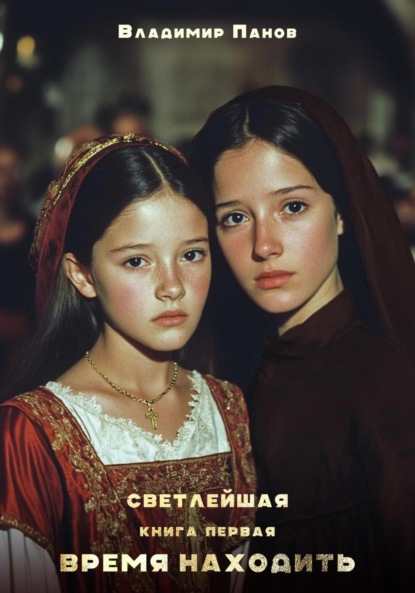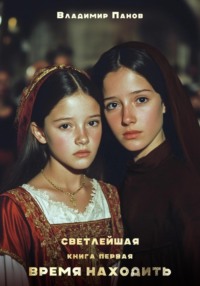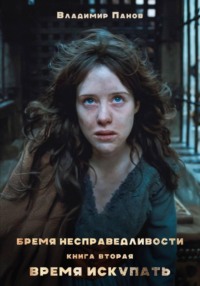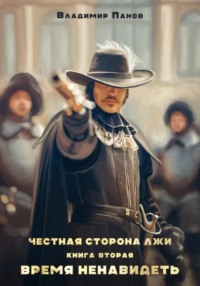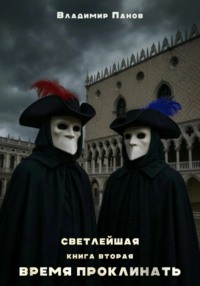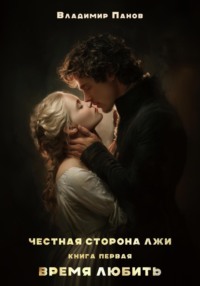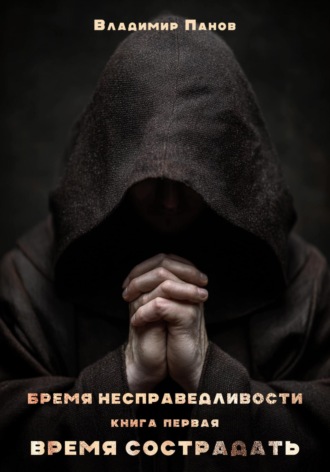
Полная версия
Бремя несправедливости

Владимир Панов
Бремя несправедливости
Книга первая. Время сострадать
Пролог
От горящего камина веяло теплом, а лампа на столе давала достаточно света, чтобы можно было писать. Ректору Льежского иезуитского коллежа отцу Иоанну еще вполне доставало зрения, чтобы при не очень ярком свете лампы работать с документами и приписывать свои пометки на полях. Да и то сказать, он был еще не стар. Пятьдесят четыре года – разве это старость? И сила еще совершенно не ушла, и гибкость рук и ног… Он бы, пожалуй, вполне еще мог повторить кое-что из трюков своей молодости – тех, которым он учил новичков.
Отец Иоанн отложил последний документ в сторону и задумчиво поглядел в непроглядную, холодную черноту окна. Из ящика стола он достал небольшую кипу листов, исписанных аккуратным мелким почерком, быстро пролистал заполненные страницы и надолго остановил взгляд на последней, исписанной наполовину. Это были его мемуары. Не та официальная биография, отчет, который он написал по требованию своего начальства, а самые сокровенные, самые личные мысли и воспоминания о времени, о событиях, о людях… О людях, конечно, больше всего и ярче всего. Они все остались в его памяти навсегда. Никого уже почти нет в живых сейчас, и большинство из них умерли смертью мучительной… Он и сам должен был умереть как все, он уже был готов к встрече с Богом, когда его допрашивали, пытали… Не довелось… Господь дал ему сил бежать тогда. Сколько же лет прошло? Двадцать? Уж больше…
Когда-то его звали Джоном Джерардом. Он родился в английской дворянской семье, а его отец был убежденным, ревностным католиком в то время, когда быть таковым считалось неразумным и опасным. Потом – смертельно опасным. Когда маленькому Джону было пять лет, его отца, сэра Томаса, впервые арестовали, а сам он был помещен под опеку родственников-протестантов. Годы почти стерли его детские воспоминания, но он точно помнил, что свой выбор сделал именно тогда. И был верен этому выбору всю жизнь, каждую ее минуту.
В 1577 году, в двенадцать лет, он отправился в Испанские Нидерланды в университет Дуэ. Там был открыт Английский коллеж, где учились сбежавшие из Англии католики, а учили сбежавшие из Оксфорда преподаватели. Английский коллеж был местом известным, настоящим центром католической жизни Англии. Около трехсот его выпускников отправились проповедовать и служить на родину. Больше половины были казнены. Теперь их называли мучениками Дуэ…
После Английского коллежа был Реймс, возвращение в Оксфорд и наконец иезуитский Клермонский коллеж в Париже. Во Франции он встретил своего мудрого наставника, Роберта Персонса1, там же он понял, какую форму примет его служение.
Джерард помнил, как отправился в Англию со своей первой миссией, чтобы помогать истинным, несомненным героям: священникам, тайно несущим поддержку и свет веры гонимым и преследуемым людям. Быть католическим священником в Англии было незаконно. Наказанием была смерть. Но все же множество достойных людей, презрев опасность, выполняли свой долг, исполняли делом свою любовь и умирали за нее… Потому что не могли иначе. Но Джерард не сумел тогда помочь им, он был сразу же арестован властями. Потом была тюрьма, освобождение под залог и побег из Англии.
К следующей своей миссии Джон Джерард готовился не только духовно. Он не просто принял обеты ордена Иисуса, но и многому научился у тех наставников, которых ему предоставил орден. Он научился следить и уходить от слежки, научился скрываться под чужим именем и жить чужой жизнью, научился растворяться среди городских улиц и становиться душой светской компании. Но главное – он научился общаться с людьми. Он умел, когда нужно, очаровать собеседника или заинтересовать его, умел стать для него самым близким другом, от которого не может быть тайн, умел становиться простым и чутким человеком, притягивающим к себе людей, как свет лампы притягивает бабочек в ночи. Теперь он был готов. И годы, проведенные в Англии, стали для него будто новой жизнью, отличной от жизни прежнего Джона Джерарда. Он и звался теперь по-иному – мистер Томпсон. Впрочем, у него было еще много имен…
Тогда в старой доброй Англии вовсю орудовали «охотники за священниками». Их главарем был Ричард Топклифф – человек запредельной жестокости и удивительного ума. Он придумывал пытки и сам осуществлял их на практике, это он ввел в пыточный арсенал пытку бессонницей. А еще он любил интеллектуальные беседы со своими «подопечными»; измученным людям Топклифф вкрадчиво и доверительно доказывал их религиозные заблуждения, желая, чтобы те сами, добровольно признали свою неправоту и вину перед законом.
Чтобы служить в таких условиях, приходилось идти на самые разные уловки и хитрости. Десятки раз Джерард уходил от слежки, скрывался от погони. Многократно ему приходилось прятаться в тайниках. Однажды он просидел, скорее пролежал, в узком каменном мешке не больше трех футов в высоту целых девять дней, пока «охотники» обшаривали усадьбу его друзей. Сколько всего было, хоть роман пиши о героях плаща и кинжала…
Но везти бесконечно не может, и он был арестован. Больше трех лет он провел в Тауэре, его уговаривали, его пытали, им занимался сам Топклифф – старый, седой ветеран зла… От него требовали немногого: всего-навсего выдать место, где скрывается глава английских иезуитов отец Генри Гарнет2 – человек воистину мудрый и святой. Джерарда подвешивали, били, тянули суставы – он держался. А потом просто посадили на стул и не давали закрыть глаза. Через трое суток или больше – счет времени он потерял – глаза закрывались сами собой. Но тут же дикая боль на время вырывала его из забытья после короткого, несильного удара по ноге чуть выше пятки. Всего-то и делов – слегка ткнуть сапогом, но когда много суток бьют в одно место, боль становится нестерпимой, и Джерард готов был сделать все, чтобы не произошло следующего удара.
Так повторялось, казалось, бесконечно: три дня, пять, неделю? А потом вдруг давали спать, но быстро будили, возвращали остатки сознания, и чей-то мягкий, добрый голос спрашивал… Не отвечать этому доброму голосу было невозможно. Джерард отвечал. Он рассказывал про себя все и признавался во всем, и просил наказания и казни себе, а между ответами и бредом, прямо перед своими палачами в забытье молил Господа дать сил не выдать главного… И он не выдал. Он никого не выдал тогда. Только себя…
Потом случилось чудо, одно из самых невероятных в его жизни: друзья помогли ему сбежать из Тауэра. А еще Джерарду помог его тюремщик – молодой доверчивый парень по имени Дик, с которым он наладил контакт, и который передавал ему снадобья и помогал лечить его раны. Этот день 4 октября 1597 года он не забудет никогда. Дик помог ему покинуть камеру, и вместе с еще одним заключенным Джерард спустился по натянутой через ров веревке. Его искалеченные руки плохо слушались, он мог сорваться и разбиться, но все же сумел… Первое, что он потребовал, оказавшись на свободе, чтобы в ту же ночь вывезли и спрятали Дика – парню грозила казнь за помощь в побеге, допустить этого он не мог.
От начальства с материка он получил рекомендацию срочно покинуть Англию, но отказался. Слишком много людей нуждались в его помощи, он не имел права оставить их. Больше восьми лет он скрывался от властей, помогал братьям, выполнял свой священнический долг… Скольких заблудших он вернул в истинную церковь, сколько душ спас…
Но Генри Гарнета он спасти не смог. И было это после самой, наверное, масштабной его операции. И уж точно самой провальной. Тот самый, знаменитый Пороховой заговор, или заговор Гая Фокса, как его стали называть потом. Хотя причем здесь Фокс? Всего лишь один из привлеченных в дело им, Джерардом, людей… Впрочем, именно Фокс отвечал за сам взрыв.
Как потом выяснилось, вся операция с определенного момента велась под контролем английской секретной службы Роберта Сесила3. В каком-то смысле завершающий этап операции по взрыву Палаты лордов в Вестминстерском дворце можно было рассматривать, как провокацию секретной службы… Но он тогда, разумеется, этого не знал. Проклятый горбун Сесил обыграл его в тот раз вчистую…
Так или иначе власти узнали о заговоре и арестовали кроме заговорщиков множество людей, в том числе и отца Гарнета. Приговор сомнений не вызывал, и организовать побег не было уже никакой возможности – Джерарда самого искали так активно, что арест был вопросом недолгого времени.
В день казни Гарнета 3 мая 1606 года Джон Джерард стоял в толпе. Уйти было невозможно и оставаться больно. Люди не придумали еще, как можно убить человека несколько раз, поэтому отца Гарнета должны были повесить, но аккуратно, чтобы он был еще жив, когда палач приступит к четвертованию… Удивительное дело, толпа прорвала в одном месте оцепление и потянула висевшего в петле отца Гарнета за ноги, чтобы он умер и не подвергся остальным пыткам. А потом палач вынул сердце священника с традиционными словами: «Вот сердце предателя!» Но вместо ожидавшегося взрыва восторга было гробовое молчание. Странные они иногда эти люди…
Джерард покинул Англию в тот же день. Возможности служить дальше не было, и духовное опустошение охватило его; он понял, что исполнил свой долг в той мере, на какую хватило сил, дарованных ему Богом. В обличье слуги в испанском посольстве истощенный морально и разбитый физически он вернулся на материк.
Но на материке, не желавший ничего, кроме покоя, Джерард с удивлением обнаружил, что окружен ореолом славы и восхищением братьев-иезуитов. И руководство ордена в полной мере признало его заслуги. В Риме его принял сам генерал Аквавива, он возложил на него новую миссию – передать свой опыт и знания следующим поколениям иезуитов. И он передавал. Сначала в Риме, потом в Нидерландах, в Лувене, а потом в Льеже в основанном им коллеже, где он стал ректором. Ему нравилось учить, тем более ведь было чему… Мало у кого имелось столько опыта, как у него. Два раза ему даже пришлось вновь участвовать в миссиях – слишком уж важными они были, и орден не мог их доверить ни одному из его учеников.
За эти годы у него было много людей, которым он передавал свой опыт и умения. Он помнил их всех. Некоторых уже и в живых не было… На все воля Божья… Он учил их всему, что знал и умел сам: как ставить цели и добиваться их, как сберечься самому и сберечь товарищей и подчиненных… Он учил их быть жестокими, когда нужно, учил избавляться от своих врагов, и учил усмирять свою жестокость и ненависть… Учил быть сильными и хитрыми, спокойными и расчетливыми…
А еще он пытался вложить в их души любовь. Если смертному человеку вообще доступно такое… Но он был уверен, что без любви они не смогут быть сильными, не смогут служить своему делу с полной отдачей. Без любви нельзя добиться целей, одержать победу. Он хотел, чтобы его ученики всегда помнили, чему они служат, ради кого и чего они исполняют свой долг, какое великое и благое предназначение им начертано. Помнили и понимали: чтобы с достоинством, к вящей славе Божией пройти свой путь мало даже любить… нужно уметь сострадать и прощать.
Глава 1 Праведный суд на скорую руку
Когда-то эта земля называлась Ретией. Хотя какая там земля – камни и горы одни. Плодородных долин вдоль рек мало и были они узки, так что хлеба давали совсем немного. Зато на склонах гор хорошо росла трава, а потому главным занятием людей испокон веков здесь было скотоводство.
Люди селились в этих долинах Альп давно. Никто не помнил уже, как называли себя те племена, что жили здесь задолго до рождения Христа, но пришедшие сюда римляне называли их ретами. Так и получилась Ретия. Римляне создали здесь провинцию, дали местному народу свой язык, но римские обычаи приживались с трудом и долго – слишком уж отличалась суровая горная жизнь от беззаботной жизни равнин.
Шли годы и столетия, и реты смешивались с колонистами из Италии, перенимали их культуру, стали говорить на латыни. Правда, настоящие римляне с трудом понимали эту горную латынь и высокомерно продолжали считать местных горцев чуть ли не варварами. Но где теперь этот Рим со своей гордыней? Он пал, и с севера в долины пришли настоящие варвары. Германцы занимали самые лучшие и широкие долины на севере Ретии, оттесняя бывших хозяев на юг в горы.
Но все кончается на этом свете, кончилась и неутомимая жажда походов и завоеваний у германцев. Постепенно и старые, и новые жители Ретии научились более или менее мирно существовать друг с другом. И то сказать, жизнь в этих суровых местах способствовала объединению. Центры крупных государств находились далеко, их власть с трудом добиралась до горных долин и часто была условной, так что защищать себя приходилось самим. Маленькие деревеньки и небольшие города объединялись в общины, заключали союзы с соседями, образовывали нечто вроде государств.
Ко временам Швабской войны4 на той территории, что еще называлась некоторыми поэтами, летописцами и политическими популистами пафосно и ностальгически – Ретией, существовало три объединения или три лиги, оформленных союзными договорами жителей долин: Серая лига, Лига десяти судов и Лига Божьего дома. Три лиги, объединенные общими интересами защиты и торговли, заключили союз между собой, и появившаяся конфедерация со слабой центральной властью, но сильным местным самоуправлением стала называться Свободным государством трех лиг. Хотя по названию Серой лиги в Германии его чаще называли – Граубюнденом, а во Франции – Гризоном.
И все-то было неплохо: люди, говорившие на разных языках, вместе охраняли перевалы, торговали, принимали общие законы, вместе защищались от врагов, вместе доблестно грабили соседей. Они прекрасно понимали, сколь нужны друг другу в этих важных и полезных делах, так что постепенно стала складываться единая политическая нация.
Но возникали и трудности. В начале XVI века в республику Трех лиг пришла реформация. Где-то она торжествовала, где-то люди оставались верны католичеству. Реформация распространилась в Трех лигах неравномерно: германоязычные общины были охвачены ею в большей степени, а общины, говорящие на старом ретском наследнике латыни и итальянском – в меньшей. Реформация поделила общины и даже семьи. Две самых влиятельных и богатых семьи в республике – Салисы и Планта и те разделились в своих религиозных предпочтениях.
И все же люди всегда могут договориться, если им не сильно мешать, и пока соблюдался религиозный мир больших бед не было. Законы о веротерпимости, принятые в Трех лигах, позволяли сосуществовать двум религиям рядом и не причинять друг другу больших неудобств. Так, если в деревне или городе был только один храм, то зачастую он использовался и католиками, и протестантами; за счет общих средств общины содержались и католический священник, и протестантский пастор, даже если услугами одного или другого пользовались всего несколько человек в деревне. Постепенно все к этому привыкли, но в дело, как всегда, вмешалась политика.
Европу охватило противостояние Габсбургов – Испанских и Австрийских – и их противников. Габсбурги традиционно опирались на католичество и боролись с реформацией всеми силами. А реформация, зачастую, во многих странах Европы стала отождествляться с борьбой против экспансии Габсбургов и, соответственно, наоборот, – приверженность католичеству означала политическую поддержку Испании и Австрии. А тут еще вмешалась Вальтеллина.
Плодородная, богатая долина реки Адда, принадлежавшая миланским герцогам, издавна притягивала к себе жителей Трех лиг. Многие шли на юг, переходили перевалы и селились там, но все же большинство жителей Вальтеллины продолжали говорить на ломбардском наречии, принадлежа итальянской культуре и традициям. Вальтеллина и соседствующая с ней Валькьявенна обладали тем, чего так не хватало жителям Трех лиг – плодородными землями, но еще одним их достоинством было расположение: через них можно было вести торговлю и с Ломбардией, и с Тиролем.
Словом, когда очередной французский король перебрался через Альпы и разнес Миланское герцогство в пух и прах, люди из Ретии решили, что наступило их время, и пора забрать себе то, что, совершенно очевидно, стало плохо лежать. Вальтеллина теперь являлась общим владением всех трех лиг, обеспечивая их жителей хлебом, вином, давая прибыли с торговли. Управлять своей новой территорией республика поставила губернатора или, как его называли жители Вальтеллины, Капитана долины – специального чиновника, назначавшегося на четыре года и обладавшего административными и военными функциями.
В Вальтеллине, как и в самой республике Трех лиг, была гарантирована свобода вероисповедания. Но уж если свобода, то свобода для всех, и в католическую Вальтеллину были направлены десятки протестантских пасторов, чтобы духовно окормлять свою совсем малочисленную паству. Жители Вальтеллины вовсе неохотно принимали реформацию, но из остальной Италии, гонимые инквизицией, в долину стекались все еретики, принявшие учение Лютера и Цвингли: бывшие католические священники, богословы, просто образованные люди, считавшие, что с католической церковью происходит что-то не то. А так как во всей Италии это было единственным местом, где человека окружала итальянская культура и язык, но при этом он мог оставаться тем, кем хотел, то протестантская община Вальтеллины постепенно росла, но все еще заметно уступала по численности католической.
В самой республике Трех лиг протестантов хоть и было больше, но и католиков оставалось немало. И никто уже давно не собирался никого обращать в свою веру, ну разве что иногда, но не очень навязчиво. А вот в Вальтеллине Капитаны долины, даже если и сами не были религиозными фанатиками, настойчиво проводили политику распространения реформации. И причина этого была проста: правители Трех лиг стремились удержать столь ценное владение в своих руках, а для этого культурно и религиозно оторвать Вальтеллину от остальной Италии.
Естественно, католическое духовенство Вальтеллины всячески противилось таким тенденциям, но, не имея светской власти, сопротивлялось осторожно, через проповеди и беседы с паствой, ненавязчиво внедряя в сознание людей понимание, кто есть богопротивный еретик, а кто непременно спасет свою душу. Но пока республика Трех лиг крепко держала Вальтеллину в своих руках, силой поддерживая порядок, католическая церковь не только была вынуждена мириться с присутствием протестантов, но и делить с ними храмы. Католические протоиереи и епископы терпели, справедливо полагая, что не может же этот ужас продолжаться и дальше, и ожидая, что Господь наконец обрушит свою кару на еретиков и низвергнет их в геенну.
А в самой республике Трех лиг происходило в это время то, что происходило по всей Европе, где короли, герцоги, графы, простые дворяне, лавочники, крестьяне, адвокаты, слуги, сборщики налогов, разбойники, воры и даже члены парламентов решали один единственный вопрос: они за Габсбургов или против них? И данный вопрос был столь непростым, что и религиозная принадлежность не всегда могла помочь с правильным выбором. Конечно, протестантам всех видов было проще выбрать сторону, но и среди них не было единства, так что уж говорить о католиках, где все были кто во что горазд, и прислушиваясь к зову сердца, переходили из лагеря в лагерь, искренне недоумевая, чего же они так долго с этим медлили.
В Трех лигах сложились две партии или два политических течения: одни выступали за сближение с католическими монархиями Габсбургов, и их лидерами была семья Планта, а другие желали поддерживать союзные отношения с Венецией и Францией – очевидных противников Испании и Австрии. Последнюю группировку возглавляла семья Салис, и эта партия оказалась на время в большинстве в республике. Единственное, что объединяло обе партии – твердая уверенность, что Вальтеллина навсегда является неотъемлемым владением республики Трех лиг.
Надо сказать, что некоторые ветви семей Планта и Салис очутились в противоположенных лагерях, что великолепно отражало сложившееся разделение всего общества республики Трех лиг. Рудольф фон Планта вместе со своим братом Помпео, будучи рождены в протестантской семье, возглавили тем не менее католическую испано-австрийскую партию, а линия фон Планта из Кура – все католики – поддерживали протестантскую венецианско-французскую партию. Нечто похожее было и у Салисов, и у множества других влиятельных семей. А еще больше дело осложнялось тем, что все знатные семьи в Трех лигах давно уже перероднились и все их лидеры приходились друг другу той или иной близости родственниками.
Само собой разумеется, что обе партии возникли не на пустом месте, а благодаря вмешательству больших внешних сил. Дело в том, что силы эти были заинтересованы не столько в самой республике Трех лиг (не самой богатой стране, чего уж там), сколько в ее владении – Вальтеллине. Для Испании долина реки Адда осталась последним безопасным путем сообщения со своими владениями в Нидерландах, где подходило к концу двенадцатилетнее перемирие, и война с мятежными провинциями готова была вот-вот возобновиться. И без этого пути через перевалы, который входил в так называемую «испанскую дорогу», возможность победить и удержать Нидерланды представлялась сомнительной. Так и сошелся на Вальтеллине свет клином для всех сторонников и противников Габсбургов, а правительства Испании, Австрии, Франции, Нидерландов, Венеции, папская курия и вообще все заинтересованные страны активно старались перетянуть на свою сторону влиятельных в Трех лигах людей, предлагая деньги, службу, титулы, суля разнообразные политические выгоды. Простых людей это касалось в меньшей степени, но и они, влекомые местной знатью, вынуждены были принимать участие в разгорающихся политических конфликтах двух партий, начавших вскоре, неизбежно, обвинять друг друга в государственной измене, личной корысти и ведению прекрасной Ретии к гибели.
Начались беспрестанные суды, политические сговоры, переходы из лагеря в лагерь и прочие прелести гражданского противостояния, не перешедшие пока, к счастью, в прямые вооруженные столкновения. Реформатская часть населения оказалась особенно активной, в апреле 1618 года собрался протестантский синод, и вопреки надеждам фракции умеренных он оказался крайне радикальным. Многие проповедники открыто призывали к насилию против неких папских агентов, якобы заполнивших долины Ретии, и продавшихся им габсбургских прихвостней из местных католических священников и нечестивых сограждан.
Последствия апрельского синода последовали тут же. Пользуясь старинным правом «поднять флаг» – собрать ополчение, несколько территориальных общин, в основном протестантских, под лозунгом спасения родины подняли фактически восстание и организовали уголовный суд в городе Тузисе. Шестьдесят шесть светских судий, двадцать семь асессоров и девять протестантских присяжных-предикантов, выполнявших роль обвинителей и не имевших права голоса, с начала августа торжественно заседали в городской церкви. Для порядка пригласили для участия в суде и католических священников, но не один из них на суд не явился – то ли из-за непризнания этого судилища, то ли из-за боязни во время оного ненароком сменить статус и оказаться на одной скамье с подсудимыми.
Любому уголовному суду, разумеется, требовались подсудимые, иначе зачем бы он вообще был нужен? И подсудимые быстро нашлись. У организовавших все дело пламенных борцов за родину уже был составлен список нелояльных граждан. К нему они добавили и просто подозрительных, и сомневающихся.
Начались допросы, допросы с пытками и пытки без допросов. На следствие по любому делу редко когда уходило три-четыре дня, обычно судьям все становилось понятно за один день, а то и за час. Наиболее талантливым и проницательным из судей было и вовсе достаточно только узнать имя подсудимого, как приговор в их головах уже созревал.
Но самыми активными и принципиальными на суде были протестантские пасторы. Люди, чьим призванием было доносить до паствы свет истины и любовь Господа к своим чадам, быстрее всех, разумеется, выявляли заблудших и мгновенно распознавали злонамеренных. Опыт и вера не давали осечки в таких делах.
Одними из первых уголовный суд в Тузисе приговорил к смертной казни братьев Рудольфа и Помпео фон Планта, благо только ради этого, можно сказать, все и затевалось. Но братья Планта тоже прекрасно понимали, ради кого все затевалось, и вовремя сбежали с родины. Тогда в Тузисе по-быстрому приговорили к штрафам и к изгнаниям родственников и друзей семьи Планта, вынужден был бежать, не дожидаясь привода в суд, и епископ Кура. Но дел после этого у судей меньше не стало, находились все новые обвиняемые, так что суд затянулся. А ведь они еще не добрались до Вальтеллины: уж там-то обвиняемых явно должно быть много.
Еще при подготовке суда 25 июля отряд солдат под командованием Георга Йенача – протестантского пастора и одного из организаторов ополчения – прошел перевалом Муретто, спустился в долину, дошел до Сондрио и арестовал тамошнего протоиерея Николо Руска. Священника доставили из Вальтеллины в Кур, потом на суд в Тузис, перед которым Руска и предстал 1 сентября.