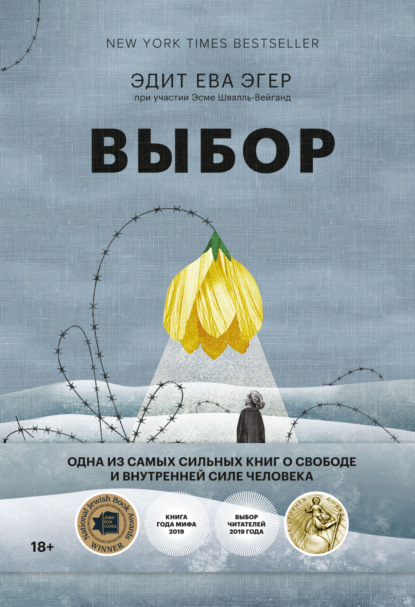Полная версия
Мифология Средиземья с иллюстрациями Антейку

Александра Баркова
Мифология Средиземья с иллюстрациями Антейку
Все права защищены.
Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.
© Баркова А., 2026
© Иллюстрации. Антейку, 2026
© Оформление. ООО «МИФ», 2026
⁂Введение
Английского писателя Дж. Р. Р. Толкина можно по праву назвать властителем дум целого поколения. И даже не одного – популярность его книг, породивших настоящую субкультуру, растет с каждым десятилетием. «Властелин колец» – наиболее известное из литературных произведений Дж. Р. Р. Толкина. Оно по праву признано одним из самых читаемых в истории мировой литературы. Будучи впервые опубликованным в 1954–1955 годах, роман до сих пор вызывает неизменный интерес у все новых и новых поколений читателей. В наступившем веке «Властелин колец» переживает очередной, весьма бурный период повышенного внимания к себе. Принадлежность «Властелина колец» к мировой литературе (в самом глобальном смысле: как во временном, так и в пространственном аспекте) оказывается гораздо важнее, нежели принадлежность его конкретно к литературе XX века.
Еще одна причина, не позволяющая говорить о «Властелине колец» только лишь как о достоянии ушедшего века, – это существование субкультуры, в зарождении которой роман сыграл решающую роль. Истоки этой субкультуры следует искать в «толкиновских обществах», образованных в середине 1960-х годов (сразу после издания романа в Америке) американскими студентами, для которых книга стала поистине культовой. Затем толкинистское движение распространилось также по Европе. Путь книги в Россию был гораздо длиннее: с начала 1960-х годов существовали самиздатовские переводы, известные лишь единицам, а первая часть трехтомной эпопеи была опубликована лишь в 1982 году (и некоторые школьники, которым посчастливилось ее прочесть, целых восемь лет оплакивали Гэндальфа – до выхода второго тома). Только в начале 1990-х вышел первый полный перевод романа, а чуть позже – и «Сильмариллиона». С конца 1980-х годов развивается русское движение толкинистов – то очень заметное среди молодежных сообществ, то уходящее в тень.
В рамках субкультуры «Властелин колец» перестает быть исключительно художественным текстом; он становится неким своеобразным первоэлементом особого мира и одновременно свидетельством существования этого мира – Словом, созидающим Материю, инструментом Демиурга, строящего свой универсум, отличный от физической реальности. И хотя для субкультуры несомненную ценность представляют и другие произведения, вышедшие из-под пера Толкина (в частности, «Сильмариллион»), именно «Властелин колец» видится тем краеугольным камнем, на котором держится мироздание в понимании культуры толкинистов.
Так в чем же загадка мира Толкина? Чем отличается «Властелин колец» от других романов фэнтези? Почему именно эта книга породила целую субкультуру, активно существующую в нашей стране уже четвертое десятилетие (в то время как большинство других литературных субкультур никогда не были так заметны и не перешагнули рубеж 2000 года)? Что именно находили и продолжают находить во «Властелине колец» его читатели, почему практически осуществилось желание автора эпопеи, однажды сказавшего: «Мне хотелось, чтобы люди просто оказались внутри книги и воспринимали ее, в каком-то смысле, как реальную историю»[1]? В какой момент зарождается абсолютное доверие к тому, о чем читаешь на страницах романа, заведомо являющегося художественным вымыслом?
Ответ на этот вопрос следует искать в глубочайшей эрудиции Толкина. Недаром в субкультуре его зовут просто Профессор – не потому только, что он долгие годы был профессором Оксфорда, нет: независимо от глубины собственных познаний в лингвистике, астрономии, ботанике, мифологии, литературе и других науках, толкинисты ощущают, какой огромный багаж знаний стоит за текстом «Властелина колец».
Чтобы хоть отчасти приблизиться к пониманию этого мира, мы попытаемся проанализировать его в нескольких аспектах. Во-первых, как отражение системы знаний, почерпнутых из естественных и точных наук (что создает исключительно достоверную материальную основу мира). Во-вторых, мы рассмотрим мир Средиземья в проекции трех культур, которыми вдохновлялся Толкин: кельтской, скандинавской и финской. И в-третьих, мы дадим обзор образов и сюжетов с точки зрения типологии, то есть преломления в тексте универсальных мифологических категорий, сохраняющихся на глубинном уровне в мышлении человечества с древнейших времен до наших дней.
Подчеркнем, что если естественно-научный подход к создаваемому миру был результатом сознательной, целенаправленной работы Толкина, то два других находились скорее в сфере художественного переживания, нежели в сфере отрефлексированной аранжировки тех или иных мотивов. В этом и заключается уникальность Толкина: ученый в нем верно служит художнику. Именно синтез обеих составляющих – научно выверенной фактографии и полета творческой фантазии – дает в результате уникальный культурный феномен современности: литературное произведение, вышедшее за пределы самой литературы на качественно иной уровень – уровень формирования нового культурного пласта.
Автор книги принадлежит к субкультуре более тридцати лет, что дает возможность взглянуть на мир Толкина как снаружи, глазами ученого, так и изнутри – глазами того, кто воспринимает Средиземье как пусть нематериальную, но реальность.
Это издание представляет собой переработанный вариант книги «Феномен Толкина», вышедшей под редакционным названием «Все тайны мира Толкина. Симфония Илуватара». Автор сердечно благодарит тех, кто помогал в работе: прежде всего Константина Пирожкова и Элентирмо (Сергея Белякова), а также Могултая (Александра Немировского) и Андрея Архипова.
«Толкиен» или «Толкин»?Среди русских толкинистов правописание фамилии Профессора – поле битв не на жизнь, а на смерть. В этом издании, по настоянию редакции, будет использоваться общепринятая на данный момент форма «Толкин». Однако есть масса аргументов в пользу второго варианта.
В изданиях 1990-х годов писали «Толкиен», в новом веке возобладала другая точка зрения. Аргумент ее сторонников – цитата из письма к Ричарду Джеффери: «Мою фамилию постоянно пишут (кроме тебя) как Tolkein. Не знаю, в чем причина, поскольку всегда произношу окончание как – кин». Но эта цитата используется неверно. Речь идет об английском произношении, а никак не о транслитерации на славянские языки. Для русского языка (как, впрочем, и для английского) нормально несовпадение написания и произношения. А при переводе надо учитывать законы не только языка оригинала, но и языка перевода. Фамилия «Толкиен» опознается как иностранная, фамилия «Толкин» – как русская, так что в творительном падеже могут возникнуть проблемы. Кроме того, мы живем в мире, где все больше распространяется автоматический перевод, так что русское «Толкин» регулярно превращается в Tolkin, что недопустимо.
Игнорирование законов русского языка – беда многих современных переводов. Так, имя принцессы Luthien сейчас пишут как «Лютиень», не замечая там слова «лют» во внутренней форме. Иные увлекаются фонетикой и практически во всех именах пишут «э», отчего текст приобретает пародийно-кавказский акцент, а уж написание «Бэрэн» выглядит и вовсе насмешкой над героем.
Как же поступить?
Первые переводчики «Властелина колец» руководствовались принципом выдоха. Это означает, что если в слове нет смычных согласных, то звук th передается как «ф», а если есть, то как «т»: именно поэтому корень mith («серый» по-эльфийски) дает нам в русском варианте как «мифрил», так и «Митрандир». По этому принципу принцессу надо было бы звать «Луфиэн», и совершенно гениальным оказывается вариант Кистяковского «Лучиэнь», неверный с точки зрения законов английского языка, но соответствующий русской фонетике и содержащий в себе потрясающую внутреннюю форму в придачу. Исключения из принципа выдоха бывают (например, «Аранарт», о котором поговорим в свое время), но они единичны.
Еще одна проблема – двойные названия. В английском языке нет склонения, поэтому написание Minas Tirith не вызывает никаких проблем. Но оно есть в русском языке, причем склоняется только второе слово, поэтому приходится ставить дефис: «в Минас-Тирите» (кстати, если бы мы переводили это название, то дефис стоял бы, хотя склонялись бы оба слова: «Град-Страж», «в Граде-Страже»). Ради единообразия мы ставим дефис во все двойные названия, то есть «на высокой Амон-Сул», хотя название горы и не склоняется. Подобный подход неизбежно найдет своих противников, но нам представляется важным соблюдать в русском тексте законы русского языка.
Часть 1. Творец мифа – ученый

Глава 1. Любовь к слову

Рассмотрим вначале личность Толкина-писателя по отношению к созданной им мифологической системе с точки зрения его научных изысканий в области языкознания, то есть обратимся к логическому подходу ученого-филолога в освоении мифологии.
Корни мифологии Толкина лежат в том глубоком и искреннем интересе к слову, который проявился у будущего писателя еще в раннем детстве. Его интересовало не только значение слов, но и само их звучание и облик. «Лингвистические структуры всегда действовали на меня как музыка или цвет»[2]. В четырехлетнем возрасте Толкин познакомился с начатками латыни и французского, этим языкам его обучала мать. Она обнаружила, что сын получает удовольствие, слушая слова, читая их и повторяя вслух, почти не обращая внимания на смысл.
В возрасте семи лет Толкин написал свое первое произведение – это была сказка о драконе. Драконы сильно занимали воображение впечатлительного мальчика, прочитавшего однажды в книге сказок историю о Сигурде, убившем змея Фафнира. Свой ранний опус Толкин (по его собственному признанию) «начисто забыл, кроме одной филологической подробности. Моя мать насчет дракона ничего не сказала, но заметила, что нельзя говорить “зеленый большой дракон”, надо говорить “большой зеленый дракон”. Я тогда не понял почему и до сих пор не понимаю. То, что я запомнил именно это, возможно, важно: после этого я в течение многих лет не пытался писать сказок, зато был всецело поглощен языком», сообщает Хамфри Карпентер в биографии писателя.
Поступив в школу короля Эдуарда, юный Толкин получил возможность совершенствовать те знания языков, которыми он уже обладал благодаря урокам матери, и, кроме того, приступить к изучению новых языков, притягательно непонятных до поры до времени. По воспоминаниям самого Толкина, приведенным Х. Карпентером, большую часть времени в школе он тратил на изучение латыни и греческого: «Греческий очаровал меня своей текучестью, подчеркиваемой твердостью и своим внешним блеском. Но немалую часть обаяния составляли его древность и чуждость (для меня). Он не казался родным».

В старших классах Толкин вслед за классическими языками, представленными в школьной программе, начал серьезно изучать то, чего в расписании не было: он стал «докапываться до костей, элементов, общих для всех языков; фактически он начал изучать филологию как таковую, науку о словах», пишет его биограф. В своих изысканиях Толкин познакомился с англосаксонским языком, называемым также древнеанглийским, прочел в оригинале древнеанглийскую поэму «Беовульф» и, испытав настоящий восторг, пришел к выводу, что это одна из удивительнейших поэм всех времен и народов. «Кентерберийские рассказы» Чосера открыли для него среднеанглийский, на котором были написаны восхитившие будущего писателя поэмы «Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь» и «Перл» (аллегорическое произведение об умершей девочке, которое приписывают автору «Сэра Гавейна»). Кроме того, Толкин обнаружил, что среднеанглийский диалект близок к тому, на котором говорили жители Западного Мидленда, предки его матери. Следующим шагом было обращение к древнеисландскому и прочтение – теперь уже в оригинале, строка за строкой, – той самой истории о Сигурде и драконе Фафнире, которая так завораживала его в детстве. Был еще случайно попавший в руки учебник готского языка, исчезнувшего с лица земли вместе с народом, который на нем говорил, – сохранилось лишь несколько письменных фрагментов; были книги на испанском в доме опекуна молодого Толкина, отца Френсиса Моргана, наполовину испанца; были и немецкие книги по филологии, где обнаруживались ответы хотя бы на некоторые из вопросов, интересовавших начинающего языковеда.
Искренняя любовь к самому виду и звучанию слов (а также, несомненно, ценные знания, полученные из филологических трудов на немецком) подвигла юного Толкина к попытке создать собственный язык. Предполагалось, что это будет реконструкция некоего германского языка, чьих письменных источников якобы не сохранилось. Используя свои к тому времени весьма обширные познания в области лингвистики, Толкин приступил к построению даже не одного, а нескольких вымышленных диалектов, у которых была особая система грамматики и фонологии. Параллельно он работал и над их алфавитами.
К этому времени Толкин окончил школу – пришла пора поступать в колледж. В стенах Эксетер-колледжа в Оксфорде страсть молодого исследователя к языкознанию была подогрета новыми чудесными встречами – встречами с не изученными пока языками. Прежде всего Толкин по-настоящему занялся валлийским, красотой которого был зачарован с детства, хотя впервые познакомился с этим наречием в не особенно романтической обстановке: ребенком он читал названия городков Уэльса на стенках вагонов с углем, стоявших на запасных путях железной дороги, на которую выходили окна дома, где какое-то время жила семья. От валлийского будущий писатель, по собственному признанию, получил «громадное лингвистико-эстетическое удовольствие» – этим воспоминанием он делится в одном из писем к У. Х. Одену. Кроме того, в библиотеке Эксетер-колледжа он однажды нашел грамматику финского языка: «Я ощутил себя человеком, который обнаружил винный погреб, битком набитый бутылками с вином, какое никто и никогда не пробовал. Я бросил попытки изобрести “новый” германский язык, а мой собственный – точнее, их было несколько – приобрел явное сходство с финским в фонетике»[3].
Значение финского для создания собственно мифологии мира Толкина действительно велико: тот самый вымышленный язык, который имел «явное сходство с финским в фонетике», позднее будет фигурировать в произведениях под названием квэнья, или «высокое эльфийское наречие». А валлийский, в свою очередь, является образцом для построения фонологии другого эльфийского языка, именуемого синдарин.
Переведясь с классического факультета колледжа на факультет английского языка и литературы, Толкин, среди прочих лингвистических изысканий, начал уделять особое внимание среднеанглийскому и англосаксонскому языкам – они были языками предков и представлялись ему наиболее родными и понятными. Среди древнеанглийских текстов, которые Толкин читал во множестве, ему попалось собрание англосаксонских религиозных стихов – это был «Христос» Кюневульфа. И две строки из поэмы запали в душу особенно:
Ēala Ēarendel, engla beorhtast,ofer middangeard monnum sended…«Привет тебе, Эарендел, светлейший из ангелов, / Над средиземьем людям посланный». В англосаксонском словаре Earendel переводится как «сияющий свет», «луч», но здесь это слово, очевидно, имеет какое-то особое значение. Сам Толкин интерпретировал его как аллюзию на Иоанна Крестителя, но полагал, что первоначально слово «Эарендел» было названием звезды, предвещающей восход солнца, то есть Венеры. Слово это, обнаруженное у Кюневульфа, взволновало его, непонятно почему. «Я ощутил странный трепет, – писал он много лет спустя, – будто что-то шевельнулось во мне, пробуждаясь от сна. За этими словами стояло нечто далекое, удивительное и прекрасное, и нужно было только уловить это нечто, куда более древнее, чем древние англосаксы»[4].
Этому «удивительному и прекрасному», пробудившемуся где-то глубоко в душе Толкина под впечатлением от древнеанглийской поэзии, суждено было в дальнейшем проявить себя вовне: развиться, сформироваться, обрести душу и в итоге предстать в виде цикла литературных произведений, на страницах которых отражена летопись целого мира, его мифология и его история. Отправной точкой создания всего корпуса текстов стало стихотворение, появившееся в конце лета 1914 года. На его написание Толкина вдохновила любимая строчка из «Христа» Кюневульфа, где говорилось об Эаренделе; называлось оно «Плавание Эарендела, Вечерней звезды» и начиналось так:
Эарендель восстал над оправой скал,Где, как в чаше, бурлит Океан.Сквозь портал Ночной, точно луч огневой,Он скользнул в сумеречный туман.И направил свой бриг, как искристый блик,От тускневшего злата песковПо дороге огня под дыханием ДняПрочь от Западных берегов[5].В следующих строках описывается путешествие звездного корабля по небесной тверди, продолжающееся до тех пор, пока он не тает в свете восхода.
Образ звезды-морехода, чей корабль возносится на небо, не покидал воображение Толкина, и сюжет стал развиваться в обширное повествование. При этом Толкин воспринимал себя не как сочинителя истории, а как первооткрывателя древней легенды. Он чувствовал, что существует несомненная связь между историей Морехода Эарендела и «личными языками», плодом лингвистических исследований. В конце концов Толкин пришел к выводу («выяснил» – по его собственному выражению), что язык, созданный им под влиянием финского и ставший воплощением его языкового вкуса, – это язык, на котором говорят «фэйри», или «эльфы», которых видел Эарендел во время своего удивительного путешествия. Так в мире Толкина впервые появился Дивный Народ, говорящий на квэнья.
В итоге «Властелин колец» стал своеобразным альманахом лингвистических пристрастий Толкина: вестрон, всеобщий язык Средиземья, представлял родной язык писателя, то есть английский (точнее, он был «переведен» на английский); на различных диалектах вестрона говорят люди и хоббиты (язык рохирримов сходен с древнеанглийским, северные хоббитские говоры содержат трансформированные англосаксонские слова и некоторые кельтские элементы); в именах людей и хоббитов присутствуют франкские и готские формы, в именах гномов – древнеисландские; эльфийские языки, как уже упоминалось, в основе своей имеют черты финского (квэнья – «эльфийская латынь», язык Заокраинного Запада) и валлийского (синдарин – «сумеречное наречие», язык эльфов Средиземья).
В этом ряду особняком стоит мордорский язык – Черная Речь, созданная Сауроном и используемая в заклятии Кольца Всевластия, а также в некоторых именах и названиях. Попытка исследовать этимологию языка Врага дала любопытный результат: «Обнаружилось не только структурное, но и значительное материальное совпадение хурритского языка (на котором говорили в III–I тыс. до н. э. предки современных армян и курдов, сменивших его на индоевропейские) и Черной Речи»[6]. Довольно неожиданно, если учитывать, что интересы Толкина-филолога лежали в основном в области языков, принадлежащих к германской, кельтской и романской группам индоевропейской семьи (финский язык, принадлежащий финно-угорской семье, – исключение). Однако при этом в указанном исследовании оговаривается, что «хурритский язык активно обсуждался индоевропеистами и востоковедами как раз в первой половине XX века, причем в тесной связи с расовыми проблемами и происхождением ариев». Велика вероятность того, что эти обсуждения каким-то образом затронули сферу деятельности Толкина как лингвиста, к тому же расовый вопрос весьма актуален для Средиземья (особенно в отношении орков, служащих создателю мордорского языка, – расы отвратительной и во всех смыслах низкой).

Глава 2. Средиземье: построение системы

«Язык (как орудие мышления) и миф появились в нашем мире одновременно», – писал Толкин в знаменитом эссе «О волшебных сказках». Но в случае с созданным им самим миром дело обстояло несколько иначе. Здесь «вначале были языки, легенды появились потом»[7]. Легенды – то есть литературные произведения Толкина – всегда были для него попыткой создать мир, в котором получили бы право на существование его лингвистические пристрастия. Возвращаясь снова и снова к сюжету об Эаренделе и фэйри, Толкин утвердился в мысли, что, для того чтобы сделать вымышленный язык более или менее сложным и «настоящим», нужно найти для него историю, в которой он мог бы развиваться, в которой действовали бы герои, говорящие на нем. Именно тогда и возник грандиозный замысел – желание сотворить, а вернее, «открыть заново», «реконструировать» целую мифологию, которая основой своей имела бы «тайный порок» (так Толкин называл собственную страсть к изобретению новых наречий).
Еще со времен учебы в Эксетер-колледже Толкин искренне сожалел о том, что в английской культуре не сохранилось никаких преданий, подобных финской «Калевале»: «…меня с малых лет печалила бедность моей родной страны, у которой не было собственных легенд»[8]. И поэтому задуманный мифологический цикл предполагал собой не что иное, как реконструкцию, возрождение исконно английской мифологии. В одном из писем Толкина можно найти упоминание о том, как зародилась такая идея: «Не смейтесь, пожалуйста! Но когда-то, давным-давно (с тех пор я сильно пал духом), я решился создать корпус более или менее связанных между собою легенд самого разного уровня, от широких космогонических полотен до романтической волшебной сказки, так чтобы более обширные опирались на меньшие, не теряя связи с почвой, а меньшие обретали величие благодаря грандиозному фону, – которые я мог бы посвятить просто: Англии, моей стране. Эти легенды должны были обладать тем тоном и свойствами, о которых я мечтал: это нечто прохладное и прозрачное, благоухающее нашим “воздухом” (то есть климатом и почвой Северо-Запада, включающего в себя Британию и ближние к ней области Европы, а не Италию и побережье Эгейского моря и уж тем более не Восток), и отличаться – если бы я сумел этого достичь – дивной неуловимой красотой, которую некоторые называют “кельтской” (хотя в подлинных древних кельтских текстах она встречается чрезвычайно редко); они должны быть “высокими”, очищенными от всего грубого, и пригодными для более зрелого духа страны, давно уже с головой ушедшей в поэзию. Часть основных историй я хотел изложить целиком, а многие другие оставить в виде замыслов или схематических набросков. Отдельные циклы должны были объединяться в некое величественное целое и в то же время оставлять место иным умам и рукам, для которых орудиями являются краски, музыка, драма. Вот абсурд!»[9]
◆Каким бы абсурдным ни казался писателю его ранний замысел, он все же осуществил его. Насколько полно результат соответствует задуманному изначально – судить трудно, но факт остается фактом: Толкин действительно посвятил всю свою жизнь тому, чтобы воплотить идею в реальность. Начав в 1917 году работать над «Книгой утраченных сказаний», Толкин на протяжении многих лет продолжал творить, строить по кирпичику-словечку башню своего мироздания: материалом ему послужили и космогонические легенды, и сказочно-романтические истории, и героико-эпические сказания. Венцом же всего цикла стала эпопея о Войне Кольца.
Несмотря на не покидавшее Толкина ощущение, что он лишь «фиксирует» некие события, происходившие (или происходящие) в действительности, а вовсе не «изобретает» их, он всегда настаивал на том, что «Властелин колец» (как, собственно, и другие сказания цикла) – «литературное произведение, а не историческая хроника, в которой описываются реальные события»[10]. При этом он признавал, что выбранная им манера изложения, придающая произведению «историческую достоверность», оказалась удачной, что «доказывают письма, судя по которым “Властелин колец” воспринимается как “отчет” о реальных событиях, как описание реальных мест, чьи названия я исказил по невежеству или небрежности»[11].
Что же способствовало восприятию эпопеи как хроники событий, произошедших в действительности, что создавало иллюзию трехмерности? Дело в том, что, будучи ученым-систематиком, Толкин немало времени посвятил проработке номенклатуры и различным расчетам, стремясь к последовательности и выверенности. Прежде всего это касается различных культур, причем каждая из них определяется не только историей народа, но и его географией. Помимо изобретения наречий, имен, названий и знаков письменности для различных племен Средиземья, он много внимания уделил разработке других важных элементов, составляющих картину этого мира. Он подробнейше, по эпохам, годам и датам, расписал всю хронологию; проработал генеалогические древа родов, наиболее значимых для истории мира; продумал системы летосчисления и составил календари для разных народов. Все это добавляет достоверности в восприятии собственно истории той земли, где обитали герои «Властелина колец». Но истории не существует без географии, и здесь мы также видим, насколько тщательно Толкин проработал вопрос пространства.