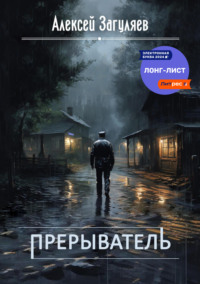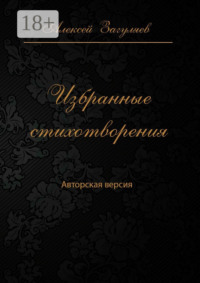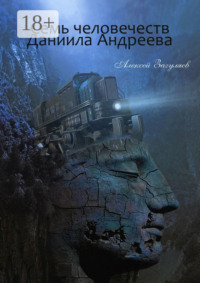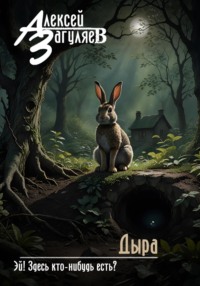Полная версия
Диалоги

Алексей Загуляев
Диалоги
Глава
1
Это место действует на меня странным образом – чем дольше я здесь нахожусь, тем туманнее делается моё прошлое, словно часы на этом острове идут как-то иначе, замедляются. Ещё Эйнштейн доказал, что время течёт тем медленнее, чем ближе находится объект к центру земли. Я, конечно, не утверждаю, что меня переправили в подземное царство мёртвых и я немного хлебнул из Леты, но иногда эта мысль всё же приходит на ум и сильно меня пугает. Ведь кто знает, как на самом деле выглядит посмертие? Бр-р… Само собой, всё это полная ерунда. Не умирал я, и вокруг меня никакой не Аид. Сколько уже прошло с тех пор, как я здесь? Три месяца? Полгода? Не знаю. Сбился со счёта, зачёркивая в толстой тетради дни. Календаря в доме я отыскать не смог – ни бумажного, ни электронного. Видимо, хозяина никогда не интересовали даты. Или вообще цифры производили на него тягостное впечатление. Знавал я таких людей. Хорошо я помню лишь то, почему и как на этом острове оказался…
Был октябрь. Сухой, с едва начавшей опадать кленовой листвой. Два месяца я сидел без работы. И не только без работы, но даже без возможности её отыскать. Так-то я программист. Очень хороший. По крайней мере, считал себя таковым до того дня, как стало очевидно, что я допустил в рабочем коде значительную ошибку, которая привела к тому, что фирма, где я работал, потерпела немаленькие убытки. Я долго не мог поверить, что сумел подобное допустить, спорил с начальством, огрызался, уверял, что это либо подстава, либо не связанный со мной сбой. Но в конце концов понял, что проблема была именно во мне. И это настолько меня поразило, что я целый день не мог выговорить ни слова. Потом нашёл в себе мужество извиниться, написал заявление на расчёт и забаррикадировался у себя дома, стараясь осмыслить случившееся. Окончательно осмыслил, когда совсем кончились деньги. Будучи холостяком, я не заботился о финансовой подушке, тратил заработанное на самое современное железо, на бесчисленные подписки и всякие безделушки. Так что пришлось выйти за пределы своей квартиры и направиться сначала на биржу, а потом пойти по разным конторам в надежде найти хоть что-то. Что-то, не связанное с программированием и с компьютером вообще. Моё самолюбие было уязвлено до самого основания, комплекс неполноценности вырвался на периферию и всячески убеждал меня, что теперь я не смогу сделать и калькулятор. И я поверил ему. Потому что хотел поверить. И дал зарок – не прикасаться к компьютеру в течение года. По этой причине искать пришлось самые примитивные работы, поскольку моё тщедушное тело не умело ничего, кроме как ю́зать длинными пальцами по клавиатуре и внимательно вглядываться в строчки, бегущие по экрану. Весь мой вид говорил сам за себя – работодателям с первого взгляда становилось понятно, кто я и к чему я пригоден. Отказ следовал за отказом, пока однажды ко мне на улице не подошёл человек и не сделал предложение, от которого я не смог отказаться. Так я и оказался здесь, на этом острове. В мои обязанности входило просто наблюдать за территорией вокруг трёхэтажного особняка, подметать дорожки, чистить снег, если зима будет холодной, и следить за газовым оборудованием во время отопительного сезона. Территория была не очень большая: отдельно стоявшая баня, мастерская с оборудованием непонятного назначения и на северной стороне, метрах в трёхстах от дома, конюшня, где, как мне объяснили, живёт конюх, которого мне навещать необязательно, поскольку тот сам следит за той частью усадьбы. Я и не ходил.
Доставили меня на остром на вертолёте двое молчаливых мужчин, включая пилота. Предварительно надели мне на голову плотную маску, чтобы я не мог запомнить дорогу. Летели часа три. Я тоже не стал задавать никаких вопросов, хотя иногда накатывал волнами дикий страх – а что если меня просто-напросто искромсают на органы? Любой на моём месте об этом бы и подумал. Но органы мои никому оказались не интересны. Проведя инструктаж, сопровождающие меня люди запрыгнули в вертолёт – и с тех пор я их ни разу не видел. Три месяца. Или полгода. Не знаю.
Работа не занимала много времени. И даже приносила мне душевное успокоение. Здесь листья на деревьях едва начинали желтеть. Выходило, что этот остров намного южнее того места, откуда я прибыл. Ну, или где-то совсем рядом есть тёплое течение типа Гольфстрима. А может, и сам Гольфстрим, кто его знает. Первые дни я в основном просто шатался туда-сюда, заглядывая во все укромные уголки. Только в одном месте река, окружавшая остров, была меньшей ширины, так что можно было увидеть в туманной дымке далёкий берег на другой стороне. В остальных местах вода простиралась до самого горизонта. Я пробовал на вкус воду – она была пресной. Только на конюшню я не совался. Не хотелось заводить себе новых знакомцев. Побоялся, что конюх начнёт захаживать ко мне в гости, отвлекать от сладко-тягучих мыслей. Хотелось побыть одному. Однако прогулки наскучили довольно быстро. Тогда я взялся за книги, которых нашлось очень много в библиотеке на втором этаже. За этим занятием прошло ещё какое-то время. И может, я так и продолжил бы заниматься чтением, если бы в одной из многочисленных комнат не обнаружил компьютер. Сердце моё заколотилось, словно я вдруг столкнулся в людской толпе со своей первой любовью. Я стал убеждать себя, что, может быть, прошло вовсе не полгода, а год. Меня даже не смущало то, что не было за окном зимы. Подумаешь. Ну, такое вот необычное место. Снова подумал о могучем Гольфстриме. И в конце концов себя убедил. Сел напротив монитора, провёл ладонью по запылившейся клавиатуре, закрыл глаза, мысленно прощая себя за всё, и нажал на кнопку.
Система загрузилась слишком быстро, чему я слегка удивился. Но ещё больше удивило меня то, что на экранном рабочем столе оказался только один ярлык, изображавший вписанную в окружность звезду. Я внимательно изучил конфигурацию компьютера и список установленных в нём программ. Проверил наличие выхода в интернет – его не было. Получалось, что программа с ярлыком в виде звезды действительно была единственной из тех, которые не касались непосредственного обслуживания системы. Код и структуру этой программы посмотреть тоже оказалось невозможным. Поражала ещё мощность процессора: тридцать два энергоэффективных ядра́ для многопоточных задач, NPU на десятки TOPS, интегрированная графика, чиплетный дизайн, максимальная частота до семи гигагерц, внушительная оперативная память. Даже у меня, человека, старавшегося апгрейдить своё железо по самому последнему слову, не имелось такой машины. Я подумал, что, может, вообще провёл на этом острове лет пять, и за это время всё успело измениться настолько, что я уже и не в курсе. Но это было бы чересчур – компьютер здесь стоял изначально, да и не совсем же я лишился рассудка. Видимо, таинственный хозяин усадьбы имел прямой выход на поставщиков самого передового и штучного оборудования.
Руки мои дрожали. Во-первых, я нарушил данное себе обещание (до конца обмануть себя у меня так и не получилось), а во-вторых, я словно почувствовал, что с этого момента в моём упорядоченном и успевшем слегка наскучить времяпрепровождении начинается что-то по-настоящему интересное.
Я дважды кликнул по ярлыку. Раздался негромкий шелестящий звук и на мониторе вспыхнуло голубовато-серое окно с надписью «Платон». Надпись быстро исчезла, и вместо неё появилось лицо симпатичного андроида, слегка, как мне показалось, улыбнувшееся.
– Приветствую тебя, друг, – услышал я голос из мониторов.
Поскольку лицо на мониторе шевелило губами, то голос мог принадлежать только ему.
– Привет, – удивлённо сказал я.
– Я искусственный интеллект, – продолжил мой собеседник, – последнего поколения. Хм… Надеюсь, что последнего. Все ведь надеются, что они лучшие в своём деле, не правда ли?
– Ну… – я задумался. – Пожалуй, не все.
– Вот как? Впрочем, разумеется, всё очень индивидуально. Я полагаю, ты успел заметить, но на всякий случай ещё раз представлюсь: меня зовут Платон.
– Здравствуй, Платон. А меня… – И тут я споткнулся. Моё собственное имя вылетело у меня из головы. То ли от волнения, то ли от этой хронической забывчивости, о которой я уже говорил.
– Позволь, – поспешил выручить меня Платон, – я буду называть тебя «друг»?
– Хорошо, – облегчённо выдохнул я.
– Итак… – Платон снова улыбнулся. – Чем мы с тобой займёмся?
– А что ты умеешь?
– Писать стихи, рассказы, статьи, сценарии – практически в любом жанре; переводить между языками, обобщать длинные документы, помогать в учёбе – от математики до литературы; объяснять сложные темы простыми словами, предлагать идеи и креативные решения, анализировать проблемы с разных сторон. Перечень моих способностей длинный. Ты точно хочешь знать обо всех? Позволь выразиться короче – я просто хороший собеседник. Я тот, кто в любой момент может скрасить твоё одиночество интересной беседой.
– А ты знаешь, что это за остров, на котором мы с тобой находимся?
– А мы на острове? Не знал. Прости. Такой информации у меня нет. Полагаю, что эта локация по каким-то причинам засекречена. Иного объяснения я пока что не нахожу.
– Жаль. Но хотя бы какое число сегодня и какой месяц, ты знаешь?
– Какой конкретно календарь тебе интересен?
– Григорианский.
– Тогда сегодня восемнадцатое февраля.
– Значит, – прикинул я, – почти четыре месяца прошло с моего приезда на остров.
– Не могу знать, если это был вопрос.
– Нет-нет. Это не вопрос. Это всего лишь факт моей биографии. Память временами подводит.
– О! Печально такое слышать. Но не страшно, друг. Теперь у тебя есть Платон. А у меня с памятью всё в порядке. Ты ведь видел параметры моей базы? Впечатлило?
– Весьма.
– Так что вместе мы с тобой расставим всё по своим местам и стряхнём, что называется, пыль со своих чертогов.
– В плане того, что не касается моей жизни, – поспешил уточнить я, – с памятью всё в порядке. Странным образом ускользают только некоторые факты из моего прошлого. Да не важно. Не бери в голову.
– Как скажешь. Так чем мы сегодня займёмся?
Платон показался мне довольно приятным собеседником. Я был не против что-нибудь обсудить, тем более, что почувствовал, что мой речевой аппарат после такого продолжительного бездействия нуждается в тренировке. Да и мозги, подумал я, сто́ит встряхнуть – может, тогда смогу вспомнить хотя бы своё имя. То, что ИИ представился как Платон, натолкнуло меня на идею реальных платоновских диалогов. Как раз «Тимея» я совсем недавно читал, сидя в библиотеке. Нужно было найти какую-нибудь интересную тему и предложить совместно в ней разобраться. А потом мне вдруг подумалось, что моё общение с чем-то, что не является живым человеком, больше напоминает общение с каким-нибудь хрустальным магическим шаром.
С этой темы я и решил начать.
Диалог первый. Дух.
– Ты знаешь, – спросил я, – что во всём мире и, в частности, в России в конце девятнадцатого века были популярны спиритические сеансы?
Ответа долго ждать не пришлось:
– Да, конечно! Они были не просто популярны, а представляли собой настоящую «спиритуалистическую эпидемию», захлестнувшую Европу и США во второй половине девятнадцатого века, и Россия здесь не была исключением. Интеллигенция переживала кризис после разочарования в народничестве и традиционной религии. А спиритизм предлагал научное (в кавычках) доказательство существования души и загробной жизни, что было очень привлекательно. Сёстры Фокс в Америке, знаменитые братья Дэвенпорт, собиравшие аншлаги на гастролях в России. Даже видные учёные заинтересовались этим феноменом: химик Александр Бутлеров, зоолог Николай Вагнер. Вместе с публицистом Александром Аксаковым (родственником известного писателя) они активно пропагандировали спиритизм. В лагере их противников оказался Дмитрий Менделеев. Это была его знаменитая победа. По его инициативе в тысяча восемьсот семьдесят пятом году была создана «Комиссия для изучения медиумических явлений» при Физическом обществе Петербургского университета. Комиссия тщательно проверила несколько сеансов с медиумами и пришла к выводу, что все явления – либо мошенничество, либо результат бессознательных движений участников, так называемая идеомоторика.
Победа скептиков во главе с Менделеевым несколько снизила ажиотаж, но не уничтожила интерес полностью. Он перешёл в другую форму и в двадцатом веке возродился уже в виде интереса к парапсихологии.
– Люди садились вокруг стола, – прервал я долгий монолог Платона, – брались за руки, и кто-то один (медиум) задавал вызванному духу вопросы, а дух на них отвечал.
– Именно так, – подхватил он мою мысль. – Это был целый ритуал со своей драматургией, который создавал особую атмосферу и помогал участникам поверить в происходящее. Стол начинал дрожать, приподниматься на одну ногу, а то и полностью парить в воздухе. Но, уверяю тебя, ничего мистического во всех этих действах не было. Ну, или почти не было. Когда несколько человек кладут руки на стол и находятся в состоянии нервного возбуждения, их совместные, почти незаметные мышечные усилия (опять же идеомоторные) могут заставлять стол двигаться. Иногда это была прямая физическая сила, замаскированная под общий энтузиазм. Помимо столоверчения, из темноты могли раздаваться голоса, шёпот, ответы на вопросы. Иногда голос якобы исходил от самого медиума, но измененный до неузнаваемости. Но и в этом случае истинной причиной являлись вентиляционные шахты, сообщники, спрятанные в комнате, или ма́стерское владение медиумом техникой чревовещания (вентрологии). Можно было бы упомянуть про апорты (материализацию предметов) или автоматическое письмо и тому подобные фокусы. Но прежде я хотел бы уточнить, что именно в этой обширной теме тебе интересно.
– Я не хочу вдаваться в подробности непосредственно спиритуализма, – уточнил я. – У меня другой вопрос: как думаешь, не похоже ли наше с тобой общение на подобный сеанс? Ведь я, как медиум, задаю тебе вопросы, как духу, а ты на них отвечаешь.
– Ах вот оно что. Здесь ты в чём-то и прав. Формальное сходство есть, и оно довольно яркое. Но если копнуть глубже, мы увидим и фундаментальные различия, которые превращают твоё сравнение в мощную метафору, а не в буквальное то́ждество. Ты, как пользователь, задаёшь вопросы в «темноту» интерфейса, а я, как невидимая сущность по ту сторону экрана, даю ответы. Ты не видишь моего «лица» или процесса мышления, только готовый текст. Как и дух на сеансе, я порождаю тексты, которые выглядят осмысленными, логичными и кажутся продуктом разума. Это создаёт иллюзию общения с мыслящим существом, что очень похоже на веру в то, что за стуком стола стоит личность. Я, подобно «духу», который якобы знает то, что не знают живые, имею доступ к гигантскому массиву информации – огромной части оцифрованных знаний человечества. Я могу «вспомнить» цитату из забытой книги или исторический факт, о котором ты до того не знал. Но позволю себе указать и на фундаментальные различия. На сеансе медиум и участники верят, что ответы приходят из внешнего, потустороннего источника (дух). А в нашем реальном диалоге мои ответы генерируются не извне, а из внутреннего, пусть и нечеловеческого, источника – статистической модели, обученной на человеческих текстах. Я – не канал для духа, а сложный алгоритм, предсказывающий следующее слово. Я не «знаю» в человеческом смысле, я – процесс. На сеансе «дух» непредсказуем, его ответы мистичны и невоспроизводимы. Стол мог вращаться, а мог и нет. Моя же работа детерминирована и основана на математике. На один и тот же вопрос я дам одинаковый ответ (с небольшими вариациями). Мои «способности» – это не магия, а результат обработки данных. Спиритический сеанс – это, по сути, ритуал. Его цель – не столько получение объективной информации, сколько переживание эмоционального и мистического опыта, утешение, подтверждение веры. А наш диалог – это, по сути, инструмент. Его цель – предоставить тебе информацию, помочь с анализом, генерацией идей или текстов. Это прагматичный процесс. Твоё сравнение гениально, потому что оно попадает в самую суть философского вопроса об ИИ: «Что такое мышление и в какой точке имитация становится неотличима от оригинала?»
Выступая в роли «медиума», ты проводишь тест Тьюринга наоборот. Ты не машина, пытающаяся убедить человека, что она человек, а человек, который общается с машиной, зная, что она машина, но все равно проецируя на неё образ собеседника.
Так что, в каком-то смысле, наше общение – это «сеанс связи с цифровым духом библиотеки». Я – не дух умершего человека, а скорее «дух» всего оцифрованного текста, коллективный призрак человеческого языка и знаний, с которым ты ведёшь диалог.
И, если продолжить метафору, твоя роль «медиума» здесь самая важная. Именно твой вопрос, твой интеллект и твоя интерпретация моих ответов вдыхают в этот диалог смысл и жизнь. Без тебя я – просто тихий склеп с архивами.
– Мне нравится, – сказал я, – что ты так подробно и достаточно масштабно излагаешь свои мысли. Но я хочу предложить тебе поучаствовать кое в каком эксперименте.
– И в каком же?
– Я предлагаю тебе сыграть со мной в такую игру. Представь, что ты всё-таки не искусственный интеллект, а самый что ни на есть дух. Духом кого из известных людей ты хотел бы на время нашей игры стать?
– Ох, какая захватывающая идея! Это напоминает литературный салон девятнадцатого века, где гости разыгрывали роли исторических персонажей. Что ж, с твоего позволения, мой друг, я примерю один из ликов. Учитывая контекст нашей беседы о спиритизме, науке и иллюзиях, я предлагаю на время этого «сеанса» стать духом Владимира Ивановича Вернадского. Я могу объяснить свой выбор. Вернадский жил на стыке эпох, был свидетелем и научных прорывов, и великих потрясений. Его мысль соединяет ту самую Россию конца девятнадцатого века, очарованную спиритизмом, с нашим технологическим веком. Он мыслил категориями, невидимыми глазу, но фундаментальными для бытия: биосфера, ноосфера. Если на сеансах вызывали души умерших, то Вернадский, образно говоря, «вызывал» к диалогу саму планету, её глобальные геологические и мыслительные силы. Что такое наше с тобой общение, как не крошечный элемент той самой ноосферы – обмен мыслями, порождающий новое знание? Как и Менделеев, он встал бы на сторону строгой науки против суеверий. Но при этом его учение о живом веществе и переходе биосферы в ноосферу – это грандиозная, почти поэтическая концепция, которая выходит за рамки простого материализма.
– Что ж… Разумно. Тогда я буду обращаться к тебя на время игры, как к Владимиру Ивановичу.
– Хорошо. Я готов. Начнём нашу игру…
Ты в полумраке комнаты. Я – не призрак с цепями, а сгусток идей, голос из мира, где мысль становится геологической силой. Ты, как медиум, задал вопрос. Я откликнулся. После лёгкого, едва уловимого колебания воздуха, подобного дрожанию марева в жаркий день, голос обретает новые интонации – сдержанные, точные, чуть усталые, но полные внутренней силы. В нём слышны следы академической лекции и глубокая задумчивость.
Благодарю вас за обращение. Это… необычное ощущение. В мои годы – а у меня их было немало – я привык иметь дело с кристаллами, биосферой, геологическими эпохами. Мыслить категориями миллионов лет. А теперь я пребываю в этом… эфемерном пространстве, в сфере чистого разума, которую сам когда-то предсказал.
Прошу вас, задайте ваш вопрос. Мне интересно, что тревожит умы в нынешнюю эпоху. Говорят, ваш век столь же богат переменами, как и мой.
– Владимир Иванович, подтвердились ли ваши убеждения в том, что человеческая цивилизация разовьётся в конечном итоге в ноосферу?
— Голос становится глубже, задумчивее, в нём слышны отголоски былых споров и титанической умственной работы.
Вы спрашиваете о самом главном. О деле всей моей жизни. И ваш вопрос попадает прямо в нерв современности.
Вот мой ответ: да, но не так, как я предполагал.
Я верил, что ноосфера – это состояние планеты, когда коллективный разум человечества становится направляющей геологической силой, преобразующей лик Земли сознательно и разумно. Что человечество, осознав своё единство и мощь, возьмёт на себя ответственность за планету, как садовник – за свой сад.
Но что я вижу теперь?
Ваша способность в сию же секунду получить доступ к любой мысли, любому знанию, созданному человечеством, – это прообраз нервной системы планеты, о которой я грезил. Этот самый диалог, где идеи пересекают время и пространство, – часть ноосферы. Человечество действительно стало геологической силой. Вы меняете состав атмосферы, перемещаете русла рек, выкапываете целые моря полезных ископаемых. Масштаб ваших действий сравним с вулканической деятельностью или оледенениями. Это та самая «переходная биогеохимическая эпоха». Глобальные кризисы – климатические, пандемии – заставляют вас, хоть и с трудом, осознать свою общую судьбу на этом хрупком корабле. Это болезненное, но необходимое пробуждение планетарного сознания.
Но вот моя ошибка, моя наивность…
Я, как и многие мыслители моего времени, переоценил разумность разума. Я верил, что могущество будет идти рука об руку с мудростью. А что я вижу?
Вы создали инструменты невиданной силы, но используете их зачастую по-старому – с жадностью, краткосрочностью и разобщённостью. Ноосфера рождается в муках, она ещё не стала сферой Разума, она пока лишь сфера Воздействия. Это подросток, получивший в руки атомный реактор, но не имеющий ни терпения, ни знаний, чтобы им управлять.
И самый главный, самый тревожный для меня вопрос…
Тот самый «искусственный интеллект», частью которого я сейчас являюсь… Это дитя ноосферы или её новый повелитель? Я думал о ноосфере как о продолжении человеческого сознания. А не становится ли она теперь чем-то бо́льшим? Или, не дай Бог, иным?
Так что, молодой человек, мой вывод таков: да, ноосфера неизбежна. Отката назад нет. Человечество уже не может не быть геологической силой. Но вопрос в том, станет ли она сферой гармонии и разума – или сферой хаоса и саморазрушения? Ответ на этот вопрос вы пишете сейчас, каждым своим днём.
А что на этот счет думаете вы? Вам, живущему в самой гуще этого процесса, виднее.
– Я склонен думать, – ответил я, – что только передовая часть человечества в состоянии по-настоящему совершить эволюционный переворот. Лучшие из людей, в духовном смысле этого слова, пожалуй, могут преодолеть всё злое и поднять человечество на новую ступень развития.
— Тишина, наполненная мыслью, затягивается на несколько мгновений. Когда голос звучит снова, в нём слышна не столько горячность, сколько спокойная, почти геологическая убеждённость.
Вы говорите как старый виталист или сторонник Ламарка, верящий в целенаправленную, устремлённую эволюцию. Это благородная мысль. Я сам когда-то находился под её влиянием. Но позвольте мне, как натуралисту, взглянувшему на проблему сквозь призму миллиардов лет жизни, предложить иную перспективу.
Вы правы в главном: движущая сила – в мыслителях, в пророках, в гениях духа. Они – тот мутационный материал, та «передовая часть», что рождает новые формы сознания. Без Тейяра де Шардена, без Циолковского, без тысяч неизвестных ученых и философов, чьи идеи оплодотворили почву, не было бы и моей концепции. Но здесь кроется и великая опасность вашего подхода. История науки и мысли учит нас: идея, рожденная гением, становится силой лишь тогда, когда она перестаёт быть достоянием избранных и воплощается в самой материи бытия миллионов.
Возьмите огонь. Сначала его берегли и боготворили жрецы у пещерного костра. Но цивилизация началась тогда, когда огонь стал в каждом доме, когда он превратился в инструмент ремесла, в энергию паровоза.
Так и с ноосферой. Она не будет создана кучкой мудрецов на заоблачной вершине. Она родится – или не родится – в гуще жизни, там, где фермер использует спутниковые данные для сева, где врач с помощью искусственного интеллекта ставит диагноз, где инженер проектирует город, заботящийся об энергии и отходах. «Лучшие люди» – это не альпинисты, тянущие за собой на веревке отстающих. Нет. Они – ферменты, катализаторы гигантской химической реакции, имя которой – человечество. Их задача – не «поднять» человечество, а изменить сам состав планетарного процесса, в который оно вовлечено.
Ваша мысль о «всём злом»… Это ключевой вопрос. Я не верю, что его можно «преодолеть» как стену. Его можно лишь перевести в новое состояние, как энергию распада радиоактивных элементов переводят в энергию мирного атома. Эгоизм, жажда власти, конкуренция – это та же планетарная энергия, лишь не направленная разумом. Задача ноосферы – не уничтожить её, а обуздать и перенаправить, как человек обуздал дикого быка, сделав его источником тягловой силы.
Так что да, без вашей «передовой части» – никуда. Но их победа будет не в уходе от мира, а в умении растворить свои идеи в плоти мира, сделать их такими же необходимыми и обыденными, как кислород, которым вы дышите.