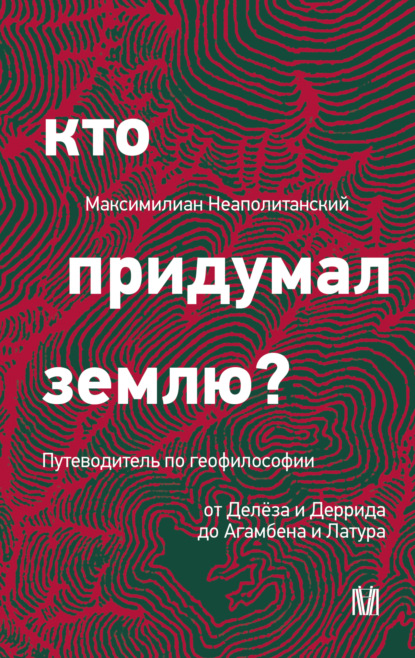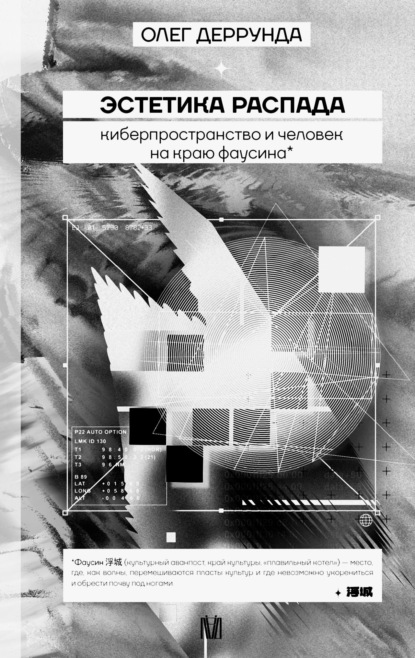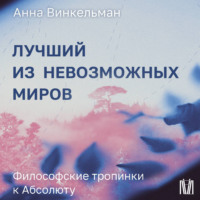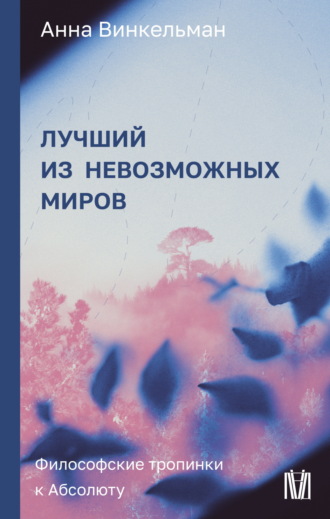
Полная версия
Лучший из невозможных миров. Философские тропинки к Абсолюту
Любовь1
Я влюбилась в Фридриха в вагоне метро. По дороге из университета в общежитие один из томов, который не поместился в студенческий рюкзак, пришлось держать в руках. Открыла его, просто чтобы чем-то себя занять. Тогда, на скорости почти сто километров в час, я вдруг услышала тихий скрип пера двадцатилетнего юноши, который писал в сноске к «Философским письмам»: «“То bе оr not to be?” – этот вопрос был бы для моего чувства совершенно безразличен, если бы я мог мыслить полное небытие. Ибо мое ощущение могло бы не опасаться, что оно придет в столкновение с небытием, если бы я только не предполагал все время, что мое Я, следовательно, и мое ощущение переживут меня самого. Поэтому превосходные слова Стерна “Я должен быть глупцом, чтобы бояться тебя, смерть, ибо, пока я существую, тебя нет, а когда ты есть, нет меня!” были бы совершенно справедливы, если бы я только мог надеяться когда-нибудь не быть. Однако я опасаюсь, что буду и тогда, когда меня уже не будет. Поэтому, <..> чтобы мыслить мое небытие, я должен одновременно мыслить себя существующим, следовательно, необходимо вынужден мыслить противоречие <..>. Я только не хочу бытия, которое не есть бытие <..>, я боюсь лишь недостаточного проявления бытия, а это по существу то же, что бытие наряду с небытием»[7].
Я вдруг будто увидела, как он напряг брови, и тогда стала читать том с самого начала. «Ф. В. Й. Шеллинг (1775–1854) – представитель немецкой классической философии. Его творческая судьба необычна: рано созрев как самостоятельный философ (в 23 года без защиты диссертации он стал профессором в Йене)…»[8] Но это мы пропустим. Где же этот юноша? Уже скоро нужно пересесть из метро в электричку, там все время будут что-то продавать и громко обсуждать неурожай помидоров. Но голос Шеллинга из книги был громче всего, что происходило в мире вещей:
«Я понимаю вас, дорогой друг! Вам представляется более предпочтительным бороться с абсолютной силой и погибнуть в борьбе, чем заранее оградить себя от возможной опасности <..>. Действительно, эта борьба с неизмеримым – не только самое возвышенное, доступное мысли человека, но, как мне думается, даже самый принцип возвышенности вообще. Однако хотел бы я знать, какое объяснение этой силе, которая позволяет человеку противостоять абсолюту…»[9]
Пока что с Фридрихом Шеллингом мы так и не расстались. И в поезде какой бы страны я ни оказалась, так и думаю: что же это за сила, которая позволяет человеку противостоять Абсолюту? Или не надо ему противостоять? Может быть, мы бы с ним просто поговорили, как говорим с Фридрихом?
Другой немец, родившийся намного позже, но не так уж далеко от места, где появился на свет сам Шеллинг, однажды мне сказал: «Никогда не знаешь, чем впечатлишь девушку: работаешь-работаешь, пишешь книги, а кто-то – раз! – и влюбится в тебя просто из-за сноски!» Впрочем, любовь – это вообще один из главных сюжетов философии Шеллинга, только пишет он о ней не как об эмоции, а как о фундаментальной силе природы, как о самом первом основании Бытия, а еще – как о способе смотреть на мир. Любовь – это то, что связывает, объединяет и дает силы: иногда бороться, а иногда и обниматься с Абсолютом.
Шеллинг говорит, что любовь никогда не достигает Бытия: «Все [философы] единодушны в том, что Божественное – это Сущность всех сущностей, чистейшая любовь, бесконечная изливающаяся сила и общительность.
Но при этом они утверждают, что Божественное [то есть любовь – А. В.] существует. Однако любовь сама по себе не может достичь бытия [мы не встречаем в мире любовь «в чистом виде»; более того, в мире она возникает только как некоторая деятельность, направленная к Абсолюту – А. В.]. Существование (Existenz) – это особенность, это отделение; любовь же <..> не ищет своего и поэтому не может существовать сама по себе»[10]. Однако само Бытие, пишет Шеллинг, возможно только благодаря любви. Возможно, поэтому Ханна Арендт писала, что любовь – это апостериорное событие жизни, которое в какой-то момент становится априорным[11]. В этом смысле она, конечно, добирается до дома и все же достигает Бытия.
Багет
Прекрасное слово «философия» удивительным образом не привело к тому, чтобы философия стала женской специальностью – девушек на философском факультете мало, а в философских магистратурах и аспирантурах еще меньше. До сих пор имя Ханны Арендт – одно из самых известных в философии ХХ века. Только сама про себя она всегда говорила, что она не философ, а политический теоретик. Сегодня же, век спустя, на полках в философских отделах ее книг уже чуть ли не больше, чем Платона, Аристотеля и Канта. Она очень точно ухватила дух и смысл своей эпохи. При этом, пожалуй, самый замечательный ее текст был написан в очень юном возрасте – это ее диссертация о понятии любви у Блаженного Августина. Карл Ясперс, руководитель работы, диссертацию оценил высоко, но все же не как что-то исключительно выдающееся. А Мартин Хайдеггер, кажется, даже в конце жизни не понял, что в этом небольшом ученическом сочинении философии было больше, чем во всех его собственных увещеваниях о Бытии.
Читателю, который не привык к академическому стилю, этот текст наверняка не понравится. Он неровный, тугой, хотя очаровательный и умный. К Арендт сегодня вообще обращаются, скорее чтобы понять, как устроено не само Бытие, а его производные, то есть то, что она называет «условия человека» (human conditions). То, что естественно развивается из самого основания Бытия: политика, общество, культура. В отличие от фундаментального Бытия, все эти области изменчивы и шатки.
Перестанешь их поддерживать – и конец. Наступает война – и конец. Все сделанное человеком рухнуло. Только лишь природа не такова. Зебальд пишет об этом в «Естественной истории разрушения»: «Да-да, осенью 1943-го, через считаные месяцы после великого пожара, в Гамбурге второй раз зацвели многие деревья и кусты, особенно каштаны и сирень. Сколько бы потребовалось времени – если б действительно приняли план Моргентау, – чтобы повсюду в стране руины покрылись лесами?»[12]
В простой черный чемодан попала переписка Арендт и Гюнтера Андерса, которую они вели всего за несколько лет до этого гамбургского пожара и многих других страшных событий. Из оккупированного Парижа она пишет ему:
«Мой дорогой Гюнтер,
Только не злись на меня, что я не написала раньше. Несколько месяцев люди вокруг меня не делают ничего иного, кроме как пишут письма в Америку, что для других оказывается вконец разрушительным. В остальном это первые спокойные дни за несколько месяцев, а значит – первые дни, в которые я могу как-то устроить так, чтобы побыть одной. И чтобы не начинать с самого начала: мы решили еще некоторое время побыть тут и нашли маленький домишко (однокомнатный) во дворе, и, хотя он не меблирован, в наших глазах это словно вершина счастья и роскоши – комната только для нас двоих. С тех пор как мы нашли это убежище, мы заняты исключительно вопросами продовольствия, что уже стало своего рода профессией. Это действительно невероятно, как сильно эта прекрасная страна, богатая и урожайная, была разрушена за несколько недель. Магазины пустые, везде длинные очереди. День за днем изменяются лучшие и старейшие привычки: никаких круассанов или бриошей больше. И конечно, никакого масла, никакого кофе, никакого мыла, вообще ничего жирного – никакого сыра после трапезы: это почти кощунство, ты же знаешь Францию. В этом регионе есть еще фрукты и овощи – я предполагаю оттого, что совершенно нет бензина: это – к счастью – делает невозможной транспортировку. Это не везде так. Еще всегда есть мясо – у меня такое впечатление, что забивают много скота, чтобы его не кормить. Так что голод пока не настал, но нехватка продовольствия и недостаток бензина могут со дня на день вызвать его в Европе»[13].
Является ли французский круассан или багет продуктом первой необходимости? Метафизика учит нас тому, что даже мир, даже само Бытие не есть продукт первой необходимости.
Начало
Примавера
Примадонна
Иногда в жизни достаточно уметь считать
Только до одного
Потенции
– Позор. Третий курс – и ни одной приличной работы на всем курсе. В тексте всегда одна главная мысль. Всего одна. Как ее можно было пропустить? Шеллинг очень ясно пишет. Мира могло бы и не быть. Просто не быть, понимаете?
Из семинара «История философии», 2015/16 г.С точки зрения метафизики существования мир в целом и багет в сущности – одно и то же. И то и другое есть, это Бытие. И то и другое могло бы быть иным или не быть вовсе. Впрочем, если наличие или отсутствие в мире багетов пугает далеко не всех, отсутствие мира кажется намного более угрожающей перспективой. И это мы еще не думали о том, что мир не просто может исчезнуть, а его могло бы и не быть. Однако разница между предложениями «мир может исчезнуть» и «мира могло бы и не быть» все же огромная. Первое и правда может ввести в досадное состояние уныния. Второе, когда оно осознано и пережито, жизнеспасительно.
Исчезновение мира в том или ином виде неизбежно. Однако поскольку начало и конец его совпадают – как у Гераклита, «начало и конец едины»[14], – то все намеки и размышления о том, что мира когда-то не будет, говорят только о том, что у него есть начало, а это подтверждает главный метафизический принцип, в котором на самом деле очень много надежды.
То, что мира когда-нибудь не станет, следует из того, как он существует. Мир – это организм. Увидеть это, тем самым ухватив и то, как мир существует, можно самым близлежащим способом – просто обратить внимание на себя. Человек, говорит Шеллинг, – это организм, не механизм. Организм отличается от механизма тем, что первый сам внутри себя имеет свое деятельное начало, которое определяет его рост, развитие и конец. Все части организма – органы – подчинены этому началу, существуют друг для друга и посредством друг друга. Сердце, например, хоть и существует словно бы само по себе, но все же изначально было «свернуто» в самом зародыше и стало сердцем в общении с другими органами. Например, в отрыве от идеи организма вообще сердце как орган не имеет смысла. При этом каждый конкретный организм, какой мы только ни найдем в природе, есть часть большого организма. Мы так уверены в этом, говорит Шеллинг, потому что даже на примере одного организма видим, что в нем представление о целом предшествует различным частям – органы развиваются определенным образом, так как берут свое начало в некоторой точке; то есть дело не обстоит так, что мы мысленно складываем все части живого целого и получается организм. Наоборот: из представления о целом развивается частное. У всех возможных организмов при этом должно быть некоторое общее начало. На мир и природу, таким образом, он предлагает смотреть как на «универсальный (единый) организм».
Такая перспектива позволяет не только поверить в то, что самое главное из наших знаний о мире на самом деле намного ближе, чем мы думаем (ведь пример организма у нас всегда под рукой), но и подталкивает нас к вопросу о начале. Наверняка знание первого принципа организма – как частного, так и всеобщего – расскажет нам что-то очень важное о мире и жизни вообще. Так как начинается организм? Как вообще что-то появляется?
Раз мир и организм существуют одинаковым образом, то любое человеческое действие или движение послужит рабочим примером для ответа на заданный вопрос. Итак, на первый взгляд, есть два варианта. В любом существенном для организма или мира решении или изменении у нас есть либо молчаливое интуитивное осознание, некоторая ясность – и мы ей следуем, либо же мы обнаруживаем внутри себя противоречия, бьющиеся друг о друга варианты. И в какой-то момент нам кажется, что один из них перевешивает другой, значит, близко решение и ясность. Следуя древней гераклитовской идее о том, что «гармония мира – это гармония оппозиций»[15], Шеллинг стремится показать, что на самом деле, когда речь идет об изменении и выборе, борьба противоречий – мнимая борьба. Все они имеют начало в первом принципе организма и мира.
Все оппозиции, все варианты, которые приводят к движению или изменению в самом общем виде – еще до того, как они попали в мир, – можно назвать «потенциями». Потенция, как говорит Шеллинг, – это «могущее быть» (Seinkönnende). Также это то, посредством чего в мире проявляется (erscheinen) Абсолют[16]. Так, в мире мы видим уже всегда проявления потенций в какой-то их конкретной форме, хотя до мира, то есть в Абсолюте, они еще никак не названы – самим словом только схвачена возможность различий. Это только в реальности я сижу и как будто бы еще не знаю, как мне поступить, так или сяк, перебираю в голове альтернативы, пытаюсь понять, что из какой следует, они поглощают меня и своей суетой заставляют забыть, что сам Абсолют – само сердце моего решения – существует еще до всяких альтернатив, в самом
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Шеллинг Ф. В. Й. Система мировых эпох: Мюнхенские лекции 1827–1828 гг. в записи Эрнста Ласо / пер. Е. Борисова. Томск: Водолей, 1999. С. 45.
2
Там же.
3
Парафраз гераклитовского «Нельзя дважды войти в одну и ту же реку». Оригинальный текст Гераклита не сохранился, мы знаем это выражение из пересказа Платона в диалоге «Кратил».
4
Толкин Дж. Р. Р. Сильмариллион: эпос нолдоров. Троицк: Гиль-Эстель, 1992.
5
Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1 / пер. с нем. М. С. Козловой, Ю. А. Асеева. М.: Гнозис, 1994. С. 5.
6
Диалог я воспроизвожу практически дословно; в отдельных случаях в скобках указываю английский оригинал, так как, например, в русском языке нет глагола-связки «есть». Мы говорим «яблоко красное», а не «яблоко есть красное» (англ. an apple is red).
7
Шеллинг Ф. В. Й. Философские письма о догматизме и критицизме // Соч. в 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1989. С. 70.
8
Гулыга А. В. Философское наследие Шеллинга // Шеллинг Ф. В. Й. Соч. в 2 т. Т. 1. С. 3.
9
Шеллинг Ф. В. Й. Философские письма о догматизме и критицизме // Соч. в 2 т. Т. 1. С. 39.
10
Schelling F. W. J. Età Del Mondo. Redazioni 1811, 1813, 1815/17. (Die Weltalter 1811, 1813, 1815/17). Bompiani, 2013. (Мировые эпохи 1811, 1813, 1815/17 цитируются по этому изданию в переводе автора. Издание 1811 будет обозначаться как Die Weltalter I, 1813 – как Die Weltalter II, 1815/17 – Die Weltalter III соответственно. «Система мировых эпох: Мюнхенские лекции 1827–1828 гг.» – произведение Шеллинга, которое часто путают с «Мировыми эпохами», цитируется по существующему русскому переводу.)
11
Различие между «апостериорным» и «априорным» имеет долгую философскую историю. В рамках кантовской философии Арендт имеет в виду, что «апостериорное» – это то, что «в мире», в опыте. «Априорное» – то, что является условием опыта, как, например, «пространство». В мире (в опыте) нет пространства в чистом виде, но все, что мы можем воспринимать в мире, возможно благодаря категории пространства.
12
Зебальд В. Г. М. Естественная история разрушений / под ред. А. Кабисова; пер. Н. Федорова. М.: Новое издательство, 2019. С. 40.
13
Anders G., Arendt H. Schreib doch mal “hard facts” über Dich, ed. Kerstin Putz. München: C. H. Beck, 2016. S. 12.
14
Гераклит «О природе» (LXX). Цит. по: Heraclitus. The Fragments of the Work of Heraclitus of the Epheus. On Nature / trans. G. T. W. Patrick. Baltimore: N. Murray, 1889. P. 102.
15
Гераклит «О природе» (LVI). Цит. по: Heraclitus, р. 98.
16
Schelling F. W. J. Historisch-kritische Ausgabe. Reihe II: Werke. Band 7, 1–2: “System der gesammten Philosophie” und weitere Schriften (1804–1807) / ed. Ch. Binkelmann and D. Unger. Frommann-Holzboog, 1980. S. 160.