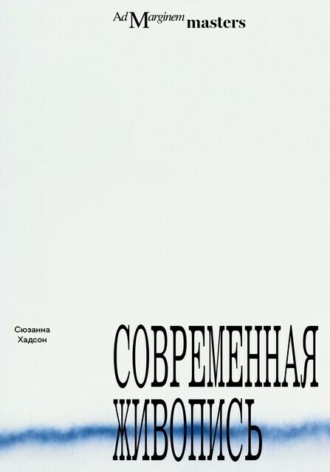
Полная версия
Современная живопись
12.
Михаэль Борреманс
Шесть крестов
2006

В пятой главе речь идет о том, как тело выходит За пределы картины и становится ее дополнением. Это случается в абстрактной живописи, фиксирующей следы тела, прошедшего через картину. В других случаях картина становится катализатором социальной активности: она может быть задействована в перфомансе, а также служить гипотетическим или реальным фоном события, как в творчестве Люси Маккензи (род. 1977, Великобритания), чью инсталляцию Скромные средства (илл. 14) можно воспринимать как серию архитектурных этюдов, театральных декораций или самостоятельных картин. Художников не всегда интересует сама живопись и ее сущность, подчас для них важнее процесс, так или иначе связанный с нею, и тогда картина служит реквизитом. Этот пример сам по себе оправдывает выражение «за пределы», вынесенное в название главы, но в ней обсуждаются и случаи, когда картины разрастаются до грандиозных презентационных форматов. Так, Карен Килимник (род. 1955, США) (илл. 15) создает многочастные инсталляции, в которые входит и живопись. Дымовые машины, историческая мебель и люстры, дерн, изгороди из самшита, действующие фонтаны составляют насыщенные иммерсивные миры, продолжающие в реальном пространстве ее небольшие картины.
13.
Дреа Кофилд
Двойной шлепок
2018

Книга начинается с темы искусства об искусстве, важной для апроприации, и шестая глава возвращается к ней: она называется Картина о картине. Характерный пример обсуждаемого в ней материала – творчество Флориана Майзенберга (род. 1980, Германия), который обрамляет картинную плоскость шторами, обыгрывая былую веру в иллюзионизм (илл. 16). Но наряду с художниками, которые замыкают живопись на себя как авторефлексивную практику, я рассматриваю и тех, кто исследует институциональное обрамление искусства: и саму архитектуру институций, и их означивающую власть по отношению к допускаемым в них произведениям. Например, Патрик Лундберг (род. 1984, Швеция) подчеркивает подавляющий масштаб музейных стен (илл. 17), вывешивая маленькие акриловые картины на шнурках для ботинок (с. 24). Многие художники выступают с критикой институций, протестуя против их политического нажима и инструментализации искусства. Другие рассматривают саму живопись как институцию, выявляя ее внутреннюю логику и анализируя ее притязания на привилегированный статус. Так, Аналия Сабан (род. 1980, Аргентина) (илл. 18) изучает материю живописи, часто воздействуя на нее физически – снимая записанный холст с подрамника или заматывая картины в термоусадочную пленку, чтобы намеренно исказить цвет.
14.
Люси Маккензи
Зал выставки Скромные средства в галерее Даниэля Бухгольца, Кёльн
2010

15.
Карен Килимник
Фонтан юности (Чистота – спутница благочестия)
Инсталляция в фонде Брэнта, Коннектикут
2012

Иногда аналитическая деконструкция материалов и процедур живописи заходит настолько далеко, что картины вновь приближаются к порогу солипсической абстракции, которой прежде уже вменялось в вину отсутствие всякого содержания за исключением информации о том, как она сделана. Это породило недовольство абстрактной живописью, но примечательно, что на сей раз оно не перешло на всю живопись как таковую. На первый план, однако, вышло фигуративное искусство, занятое вопросами политики идентичности и социальной справедливости. Седьмая глава, завершающая книгу, называется Картина жизни и повествует о живописи, активно взаимодействующей с текущими проблемами. В одном подобном проекте Ана Тереса Фернандес (род. 1980, Мексика) в 2011 году осуществила Стирание границы (илл. 19), когда вместе с волонтерами покрасила участок стены, разделяющей США (Сан-Диего) и Мексику (Тихуана), в цвет неба, так что он словно исчез. Впоследствии она окрашивала и другие участки той же стены в Мехикали, Ногалесе, Агуа-Приете и Сьюдад-Хуаресе, дополняя образ континента без границ.
16.
Флориан Майзенберг
Из серииКонтинентальный завтрак. Завтра в полдень
2011

17.
Патрик Лундберг
Без названия
2019

Конечно, деление на главы выстраивает искусственные перегородки, помогающие распределить материал, но я старалась избегать излишнего упорядочения. Главы этой книги и их подразделения – всего лишь временные контейнеры для аргументов и идей, призванные тематически организовать текст, не возвращаясь к старой таксономии жанров вроде пейзажа или обнаженной натуры (хотя они никуда не исчезли, и художники плодотворно работают в них по сей день). Имена, фигурирующие в одной главе, как правило, могли бы войти и в другие: творческий диапазон сегодняшних художников слишком широк, чтобы уместиться в прокрустово ложе одного метода или стиля. Так, все по-своему используют апроприацию, и я не могу представить себе художника, который не думал бы о процессе создания своих произведений, о том, как найти аудиторию в реальности или онлайн, и о самой природе живописи, даже – и особенно – выходя в своих работах за ее традиционные рамки. Частота, с которой поднимаются эти вопросы, созвучна моему убеждению, что концептуальное и материальное неразрывно связаны: картина о картине и картина без картины – две стороны одной монеты. Крайне подвижны границы между «плохой живописью» и хорошей, и не счесть художников, которые переходят от абстракции к фигуративности и обратно. Поэтому я избегаю бинарных оппозиций и стараюсь объединять близких друг другу художников только тогда, когда это действительно оправданно.
18.
Аналия Сабан
Зов (кресла)
2013

19.
Ана Тереса Фернандес
Borrando la Frontera (Стирание границы)
2011

Стремление к широкому охвату неизбежно влечет за собой неравномерное распределение внимания. Я долгое время жила и работала как критик в Нью-Йорке, а затем – последние десять лет – в Лос-Анджелесе, и мои слепые пятна и предрассудки, уверена, не ускользнут от тех, чей привычный мир искусства располагается в другом городе или стране. Но я не отказываюсь от ответственности и не хочу лицемерно извиняться за пристрастность. Выбор представленных в этой книге художников субъективен, однако вместе они, как мне кажется, позволяют судить об искусстве последних двадцати лет, которое можно было увидеть на выставках на коммерческих и независимых площадках в таких художественных центрах, как – помимо Нью-Йорка и Лос-Анджелеса – Лондон, Берлин или Гонконг. Гибкость структуры книги, которой я хотела добиться, поможет, надеюсь, возобновить дебаты о живописи, выходящие из концептуальных тупиков 1980-х годов, и в случае успеха это позволит найти нужный язык для разговора о художниках и картинах, не попавших на эти страницы.
Живопись асимметрична, как и глобализация, что демонстрируют, скажем, образы культурных столкновений в творчестве Константина Бессмертного (род. 1964, Россия – Макао). В картине В. встречает З. (2011) (илл. 20) Бессмертный изобразил самурая, входящего в датский дом. Мои попытки международного «охвата», разумеется, не претендуют на полноту. В каждом регионе, в каждом городе, даже в каждой художественной школе одни практики и дискурсы более востребованы, чем другие, и то же самое касается традиций («местных» или иных), несмотря на все фантазии о едином, доступном и представительном мире искусства.
20.
Константин Бессмертный
В. встречает З. Трудности перевода
2011

Что для меня действительно важно, так это выявить связи между отдельными произведениями и между культурами, в которых они существуют, а также механизмы, которые обеспечивают их переход из одной культуры в другую. Мое внимание направлено как на сами картины, так и на их окружение – физическое (стены, на которых они висят), институциональное (способы их представления в музее, галерее, на экране компьютера или смартфона, в пресс-релизе) и дискурсивное (эстетические, социальные и политические конвенции, в которых они существуют и на которые реагируют). Эти приоритеты отражены в выборе изображений, среди которых есть и картины, и виды выставок. Представленные в книге художественные произведения призваны служить двигателями моих тезисов, а не просто их иллюстрациями.
Теперь, наметив некоторые параметры медиума «живописи» и его положения, я хотела бы вернуться ко второму слову в названии книги – броскому, но не слишком определенному прилагательному «современная». Как уже было сказано выше, здесь оно отсылает к рассматриваемому периоду, который длится приблизительно с 2001 года. Отправной точкой можно было бы избрать и другие моменты, например 1989 год, когда резкие политические сдвиги изменили баланс сил в мире, или 2008 год, когда коллапс мировых финансовых рынков убедительно показал, что неолиберальный порядок – это в сущности лишь небольшая и замкнутая в себе сфера. После него многие ждали корректировки раздутой и безответственной системы искусства, паразитирующей на предшествующих годах изобилия. Но деловой мир не сбавил оборотов, и лишь после странного периода подвешенности начали оформляться элементы нового порядка: часть арт-пространств закрылась, бюджеты сократились, продажи упали, но затем на освободившемся месте возникла, подобно фениксу, еще более сильная, чем раньше, система – отчасти благодаря выставкам и аукционам, проходящим онлайн.
21.
Габриэль Ороско
Поток в сетке
2011

Рубеж веков – по большому счету случайная дата, но на сей раз она действительно совпала с появлением поистине глобального мира искусства, и это дает основания для анализа двух десятилетий, когда изменения становились всё отчетливее. Моя книга не следует хронологическому порядку, но она прослеживает ряд возникавших одна за другой (и дополнявших друг друга) предпосылок для новых практик и стоящих за ними идей. Одни тенденции намечаются и пропадают, другие оказываются более стойкими. Как свидетельствует Поток в сетке (илл. 21) Габриэля Ороско (род. 1962, Мексика) – своеобразный живописный мемориал событиям 11 сентября 2001 года, созданный десять лет спустя, – мы всё еще переживаем последствия катастрофы. Любая работа подготовлена тем, что произошло до нее – в жизни или в искусстве, – поэтому ее анализ порой возвращает нас на десятилетия назад, а то и дальше. Впрочем, хотя отсылки к прошлому имеют практическую и часто смысловую необходимость, цель этой книги – в том, чтобы разобраться в недавних и продолжающихся событиях. Стремясь быть в их гуще, in medias res, она призвана очертить рекурсивно-генеративную современность живописи.
Работая над текстом, я остро ощущала моментальность письма и вспоминала Бумеранг (1974) Ричарда Серры (1938–2024) и Нэнси Холт (1938–2004) – видео, в котором речи Холт мешают ее же слова, доносимые ей с некоторой задержкой через наушники: настоящее ускользает в прошлое в момент своего появления. Для Холт этот слышимый повтор запускал механизм осознания, самоанализа. Бумеранг наводит меня на размышления о том, как можно уловить современность, ведь, представляя настоящее как миг, уносящийся в историю, едва родившись, он побуждает к анализу этого процесса, который, как я надеюсь, присутствует в моей книге.
глава 1.
Апроприация
Отсылки к ранее созданным произведениям – обычное дело в истории искусства. Художники во все времена обращались к образцам прошлого; более того, именно так – через копирование, подражание шедеврам и переосмысление характерных черт и мотивов – традиционно строилось обучение ремеслу. В ХХ веке эта практика не исчезла и вдобавок стала служить средством проверки искусства на прочность путем прямого заимствования – апроприации. Искусство апроприации, или присвоения, предполагает, что художник использует готовый образ – чаще всего найденный объект, рекламное изображение или работу другого художника – для создания чего-то нового. Эта стратегия оформилась в США в конце 1970-х годов и по сей день остается влиятельным критическим методом, целенаправленно бросающим вызов общепринятым представлениям об авторстве и оригинальности. Акт апроприации меняет значение первоисточника и заостряет внимание на связи современной практики с той или иной освященной веками формой искусства, например с живописью.
22.
Кори Аркенджел
Облака Super Mario
2002

Современная апроприация связана как с внешним для искусства миром, так и с его внутренней генеалогией, и в этом смысле ключевую роль играют перемены в технологиях и медиа. Чтобы подчеркнуть технологический прогресс, Кори Аркенджел (род. 1978, США) применяет устаревшее оборудование и взламывает видеоигры ради новых эстетических возможностей. В работе Облака Super Mario (2002) (илл. 22) Аркенджел внес изменения в картридж видеоигры Nintendo Entertainment System 1985 (NES), стерев всё, кроме облаков, и оставив лишь пустынный, непривычно «идеальный» пейзаж с голубым пиксельным небом. Апроприация может предполагать изменение характера произведения, как в видеоигре Аркенджела или в переинтерпретации фотографии; но иногда она предполагает и смену медиума – например, превращение картины в фотографию, как в работах Вика Муниса (род. 1961, Бразилия). Мунис воссоздает знаменитые полотна с помощью таких разных материалов, как бриллианты, пыль и мусор, а затем фотографирует их: например, Мону Лизу Леонардо (около 1503–1506) он сделал из арахисовой пасты и желе, а Пшеничное поле с кипарисами Ван Гога (1889) (илл. 23) – из обрывков страниц глянцевых журналов и книг.
23.
Вик Мунис
Пшеничное поле с кипарисами, по Ван Гогу (Картины из журналов 2)
2011

В процессе апроприации материал проходит через различные интерпретативные конструкции, демонстрируя, что смысл зависит от контекста не меньше, чем от внутреннего содержания. Так, Мигель Кальдерон (род. 1971, Мексика), отталкиваясь от съемок, сделанных для мексиканского бульварного телевидения, воссоздавал различные сценки, фотографировал их, а затем заказывал местному художнику-анималисту картины по этим фотографиям. Получившиеся работы послужили декорациями для фильма Уэса Андерсона Семейка Тененбаум (2001), замкнув тем самым круг и вернувшись измененными в состояние движущегося изображения. Конечно, их интерпретации телезрителями, смотревшими реальный репортаж, теми, кто следил за последующими трансформациями «картин», и, наконец, теми, кто столкнулся с ними в фильме Андерсона, существенно различаются.
24.
threeASFOUR при участии Стэнли Кассельмана
Показ на Нью-Йоркской неделе моды
Февраль 2019

Иной пример движения материала через множественные рамки продемонстрировали дизайнеры threeASFOUR на осеннем показе мод 2019 года (илл. 24), повторив мотивы своей дебютной коллекции двадцатилетней давности в комбинации с побочными продуктами (не пошедшими в дело эскизами и т. п.) живописи Стэнли Кассельмана (род. 1963, США). Абстракции Кассельмана представляют собой композиции из цветовых пятен, искусно размытых на огромных холстах с помощью скребков для мытья окон, и исходно они создавались как откровенные реалики живописи Герхарда Рихтера (род. 1935, Германия). Идею этого проекта, запущенного в 2012 году, подсказал Кассельману арт-критик Джерри Солц, запустивший в Facebook* конкурс на создание идеальной подделки за 155 долларов плюс стоимость материалов. Чуть позже в том же году Солц написал в журнале New York Magazine, что профессиональные мошенники не станут трудиться за столь малую сумму, заодно невозмутимо заметив, что «в арт-мире некриминальными подделками никого не удивишь. Мы даже не называем их „подделками“. Если новое произведение искусства включает в себя или воспроизводит другое, мы используем слово „апроприация“. У копиистов есть своя иерархия: на одном краю располагаются по-настоящему оригинальные художники (Ричард Принс, Элейн Стёртевант), которые используют старое для создания чего-то нового (Стёртевант училась техникам копирования картин, скульптур и фильмов с нуля. – С. Х.), на другом – те, кто обманывает покупателей, а между ними – художники, подражающие другим, чтобы привлечь к себе внимание…»
* Социальные сети Instagram и Facebook, принадлежащие компании Meta, запрещены в Российской Федерации.
Как же тогда возникают новые произведения искусства? Какими средствами и с какими целями? На эти вопросы мы попытаемся ответить ниже.
После Картинок: современная история апроприации
Распространившись в США в конце 1970-х годов, апроприация напрямую бросила вызов американской системе защиты авторских прав. Сама природа апроприации подразумевала неприятие частной собственности, то есть, в более широком смысле, – критику господствующего экономического и социального порядка, в том числе патриархата. На волне студенческих протестов, борьбы за гражданские права и феминизма многие художники стремились не столько продолжить, сколько оспорить канон господствующего искусства, созданного западными художниками-мужчинами. Они поднимали вопросы о гендерном, половом и расовом неравенстве в сфере производства искусства, выставок и коллекционирования, и апроприация была направлена на выявление этого дисбаланса сил. Художники стремились пошатнуть институциональную систему ценностей, поддерживающую статус шедевров и устойчивые стереотипы.
Тем временем доминирующей силой в живописи оставался неоэкспрессионизм, о котором уже шла речь выше (с. 8). Эмоционально насыщенные, максималистские картины этого направления были пронизаны в плане формы и содержания маскулинной, а порой и женоненавистической энергией. Это противоречило росту социальной ответственности в мировоззрении многих художников, и неоэкспрессионизм в том виде, в котором его утверждали Дэвид Салле (род. 1952, США) или Георг Базелиц (род. 1938, Германия), попал под огонь критики за пропаганду сексистских клише и прочих зол. (Базелиц даже в 2013 году открыто заявлял в интервью Spiegel Online, что «из женщин не получается сильных живописцев. Это факт»).
Пока одни художники воплощали на огромных холстах юношеские мечтания о резвящихся обнаженных женщинах, доступных взору, другие увлекались древними мифами, стараясь связать свое искусство с почтенным прошлым. Так, Джулиан Шнабель (род. 1951, США) заполнял холсты гирляндами разбитой посуды, создавая видимость спонтанности и эмоционального катарсиса. Он обращался к ручному ремеслу, связанному с женской домашней работой и рукоделием, но парадоксальным образом резервировал его за мужчиной. Подобные работы хорошо и дорого продавались, принося их авторам известность (впрочем, культ личной выразительности не обходится без жертв, примером чему трагическая смерть Жан-Мишеля Баския). Но многих художников и критиков эта рыночная реальность удручала неразличимостью живописи и товара.
Казалось, масляная живопись дискредитирована, и апроприация в течение 1980-х годов активно использовалась в других медиа, прежде всего в фотографии, о чем свидетельствуют работы Шерри Левин (род. 1947, США) и Ричарда Принса (род. 1949, США). Они переснимали фотографии, сделанные другими, и представляли «новые» кадры как свои собственные. Левин апроприировала работы фотографов-мужчин, в частности снимки фермеров и их жилищ, сделанные Уокером Эвансом в рамках государственной программы Администрации по защите фермерских хозяйств во время Великой депрессии. В пресс-релизе первой выставки этих работ в 1981 году она объясняла:
«Меня интересует вопрос идентичности и собственности: что значит „такое же“? Что является нашей собственностью? Я не доверяю ауратическим представлениям об искусстве: „аутентичности“, „гению“, „шедевру“, „кисти“. Когда любое изображение можно заложить и сдать в аренду, фотография фотографии не более удивительна, чем фотография обнаженного тела».
Принс, в свою очередь, переснимал рекламные плакаты сигарет Marlboro с американскими ковбоями, очищая их от логотипов и лозунгов. Этих художников стали называть «поколением картинок» после небольшой, но очень влиятельной выставки под незамысловатым названием Картинки (Pictures), организованной Дагласом Кримпом в Нью-Йорке в 1977 году. Помимо Принса и Левин, в ней участвовали и другие художники, например Джек Голдстайн и Роберт Лонго. Обычно они не скрывали источники своих произведений, стремясь демонтировать и реконтекстуализировать «оригинальный» материал, а не создать свой образ с нуля. Но хотя задача апроприаторов заключалась в том, чтобы ослабить натиск потребительской культуры на коллективное воображение, в их работах нередко усматривали всего-навсего повторение проблем, присущих самому критикуемому материалу. В отличие от того же коллажа, который наглядно демонстрирует, что его материалы собраны из разных источников, переснятая фотография ничем не отличается от оригинала. Как же тогда отличить «оригинал» от «копии»? И как оценить замысел, когда изображения ни к чему не привязаны и постоянно перемещаются (феномен, который в дальнейшем будет только усилен с появлением интернета)?
Антиисторичный принцип реди-мейда набрал к 1982 году такую силу, что американский теоретик культуры Фредерик Джеймисон назвал «пастиш» центральной темой постмодернизма в своем выступлении Постмодернизм и общество потребления в нью-йоркском Музее американского искусства Уитни. Он определил этот термин как бессистемный и неиерархический круговорот цитат, оторванных от их исходной формы и смысла. Тем не менее апроприация символизировала критическую позицию, вне зависимости от предмета исходного изображения и его автора. И еще она утверждала, что эстетический перенос значим сам по себе.
Сегодня, однако, такого определения апроприации уже недостаточно (и выпад Джерри Солца против некриминальных подделок и перепевок – очередное тому подтверждение). Вера в то, что акт апроприации как таковой превзойдет смысл своего содержания, давно рассеялась. Оглядываясь назад, мы видим, что представление о революционной роли художника порой служило оправданием или даже алиби для обращения к скользким темам и грубому культурному присвоению, то есть для привилегированного авторства, оппортунистски перенимающего аспекты культур меньшинств для поддержания собственной власти.
Возьмем, к примеру, Келли Уокера (род. 1969, США). С начала 2000-х годов он создает работы, исследующие связь произведения искусства и его медиации: то, как идея преподносится зрителю, всегда уже будучи включенной в тот или иной контекст, так как она взаимодействует с сетями, по которым циркулирует, еще до того, как реализуется в конкретном произведении. Его серия Катастрофа (2002), отсылающая к созданной Энди Уорхолом в начале 1960-х годов серии Смерть и катастрофа с ее образами автомобильных аварий и электрических стульев, существует только на компакт-диске, который считывается компьютером, то есть в виде цифровых изображений, проходящих через потоки сигналов или извлеченных из облака для хранения данных. В качестве исходного материала Уокер выбирает образы громких катастроф – леденящие кровь кадры крушений пассажирских самолетов или землетрясений – и приглашает зрителя к участию в творчестве, предлагая ему файлы с высоким разрешением для любых манипуляций (с помощью широкого спектра палитр и стилей), воспроизведения и распространения. Хотя никакие изменения, внесенные зрителями, не делали кадры менее ужасными, Катастрофа долгое время не обсуждалась с этической точки зрения. Дискуссии о ней вертелись вокруг процесса, предложенного Уокером, и его основного фокуса, хорошей иллюстрацией которого служит другая его работа – большая скульптурная реплика международного символа переработки отходов, служащая эмблемой его собственной практики.

