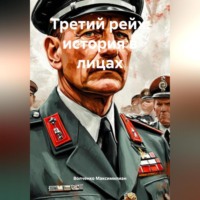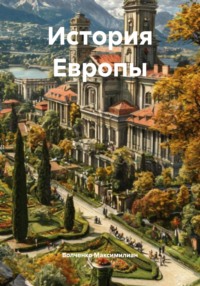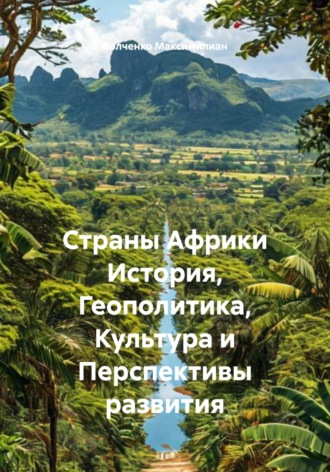
Полная версия
Страны Африки История, Геополитика, Культура и Перспективы развития

Волченко Максимилиан
Страны Африки История, Геополитика, Культура и Перспективы развития
Первые Homo sapiens. Именно по африканским землям проходили маршруты древнейших миграций, формируя генофонд всего современного человечества. И всё же на протяжении столетий Африка в западном воображении оставалась «пустым пространством» – terra incognita, покрытой туманом мифов, предрассудков и идеологических проекций.
Настоящая монография ставит своей целью не просто «заполнить пробелы» в знаниях о странах Африки, но переосмыслить саму парадигму их изучения. Мы отходим от традиционного подхода, в котором Африка рассматривается либо как объект гуманитарной помощи, либо как ресурсная периферия мировой экономики. Вместо этого мы предлагаем рассматривать 54 суверенных государства континента как полноценных субъектов глобальной политики, культуры и инноваций.
Методологической основой исследования служит междисциплинарный синтез: исторический анализ дополняется данными политической экономии, культурной антропологии, лингвистики и геополитики. Особое внимание уделено внутренним нарративам – мы стремимся слышать не только голос западных или российских исследователей, но и африканских интеллектуалов, писателей, активистов и политиков.
Структура первого тома отражает эту логику. После критического разбора эволюции научных представлений об Африке (Глава 1), мы обращаемся к природно-географической основе континента (Глава 2), понимая, что климат, рельеф и ресурсы формируют не только экономику, но и социальные структуры. Завершает том анализ доколониального периода (Глава 3), призванный разрушить миф о «первобытности» доконтактной Африки и продемонстрировать сложность её государственных образований, торговых сетей и духовных систем.
Эта работа – не энциклопедия и не справочник. Это аналитический нарратив, в котором каждый факт подчинён более широкой интерпретации. Автор сознательно избегает нейтрального тона «объективного наблюдателя» – ибо в науке о человеке и обществе нейтральность часто маскирует скрытую позицию. Наша позиция – солидарность с африканскими народами в их стремлении к самоопределению, справедливости и устойчивому развитию.
Глава 1. Африка в мировой науке: от мифов к эмпиризму
1.1. Эволюция западных представлений об Африке (от Геродота до Хегеля)
История западного знания об Африке – это история постепенного, но неравномерного перехода от мифологического к эмпирическому. Уже в V веке до н.э. греческий историк Геродот в своей «Истории» посвятил Ливии (так древние греки называли Африку к западу от Египта) целую книгу. Он описывал берберские племена, карфагенскую торговлю и даже упоминал о золоте, добываемом «в стране, где люди едят рыбу». Однако его рассказы перемежались с фантастическими сюжетами: о существах с «четырьмя глазами», о племенах, живущих в пещерах, и о реке, текущей из океана на юг.
Средневековье не принесло радикального прорыва. Христианская Европа воспринимала Африку преимущественно через призму библейской топографии: Эфиопия отождествлялась с землёй царицы Савской, а Нил – с рекой из рая. Лишь арабские географы – такие как аль-Идриси (XII в.) и Ибн Халдун (XIV в.) – предложили более систематическое знание. Аль-Идриси, работая при дворе норманнского короля Роджера II в Палермо, составил карту мира, на которой чётко обозначил Сахару, реку Нигер и города Тимбукту и Гао. Ибн Халдун в «Мукаддиме» впервые применил социологический анализ к изучению кочевых и оседлых обществ Северной Африки, введя понятие «асабийя» (социальная сплочённость).
Перелом произошёл в эпоху Великих географических открытий. Португальцы, обогнув мыс Доброй Надежды, столкнулись с развитыми государствами Западной Африки – Бенином, Конго, Ашанти. Однако вместо признания их цивилизованности начался процесс дегуманизации, оправдывавший работорговлю. Африканцы стали изображаться как «естественные рабы» – тезис, восходящий ещё к Аристотелю, но получивший новую жизнь в колониальной идеологии.
Просвещение, несмотря на декларируемый гуманизм, не избавилось от этих стереотипов. Давид Юм в своём «Очерке о человеческом понимании» (1748) писал: «Я склонен подозревать негров и других представителей человеческой породы… в естественной неполноценности». Подобные взгляды были широко распространены среди европейской элиты.
Кульминацией философского отрицания Африки стал Георг Вильгельм Фридрих Гегель. В «Лекциях по философии истории» (опубликованы посмертно в 1837 г.) он утверждал:
«Африка… есть не историческая часть света, она не входит в круг всемирной истории… Что мы собственно понимаем под Африкой, это – неисторическая, не развившаяся, всё ещё погружённая в естественные условия Африка».
Этот тезис, несмотря на его научную несостоятельность даже для XIX века (когда уже были известны руины Великих Зимбабве, хроники Мали и дипломатическая переписка Конго с Папой), стал идеологическим фундаментом колониализма. Если Африка «вне истории», то её народы не имеют права на самоуправление – следовательно, «цивилизующая миссия» Европы оправдана.
Только в XX веке, благодаря археологическим открытиям (например, раскопкам в Ифе и Бенине), лингвистическим исследованиям и работам первых африканских интеллектуалов, начался процесс реабилитации африканской истории.
1.2. Советская и постсоветская африканистика: достижения и утраты
В отличие от западных стран, где изучение Африки долгое время было связано с колониальным управлением, советская африканистика изначально носила антиколониальный и прогрессивный характер. Уже в 1920-е годы в СССР появились первые курсы по истории Африки. В 1930-е – 1950-е годы исследования велись преимущественно в рамках марксистской методологии: акцент делался на классовой борьбе, формациях и антиимпериалистическом сопротивлении.
Ключевую роль сыграл Институт востоковедения АН СССР, а также Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) и Ленинградский университет. Выдающимися представителями советской школы были:
Евгений Дмитриевич Беккер – автор фундаментальных работ по истории Северной Африки,
Иван Александрович Потехин – один из основателей советской африканистики, исследователь национально-освободительного движения,
Юлия Васильевна Бромлей – этнограф, изучавшая социальную структуру африканских обществ.
Советские учёные активно сотрудничали с африканскими университетами, обучали студентов из Африки, участвовали в разработке программ развития. Особенно важной была поддержка стран, вставших на путь «африканского социализма» – Ганы, Танзании, Гвинеи.
Однако после распада СССР африканистика в России пережила глубокий кризис. Финансирование сократилось, кафедры закрывались, молодые исследователи уходили в другие сферы. К 2000 году в стране осталось менее десятка специалистов мирового уровня.
Лишь в последние 15 лет наблюдается осторожное возрождение интереса – в первую очередь в связи с усилением экономического и политического присутствия России в Африке (саммиты Россия–Африка, деятельность ВЭБ.РФ, «Росатома», ВКС). Однако современная российская африканистика всё ещё страдает от недостатка полевых исследований, языковой подготовки и теоретической рефлексии.
1.3. Деколонизация знания: африканские интеллектуалы и «эпистемология юга»
Настоящий прорыв в понимании Африки произошёл не в кабинетах западных университетов, а в самой Африке. Уже в 1930-е годы нигерийский историк Самуэль Джонсон написал «Историю йоруба» – первую крупную работу по африканской истории, основанную на устных преданиях и местных источниках.
После обретения независимости в 1950–1970-е годы формируется поколение африканских интеллектуалов, поставивших целью деколонизацию науки. Среди них:
Кваме Нкрума (Гана) – в работе «Классовая борьба в Африке» (1970) критиковал не только колониализм, но и неоколониальные структуры,
Чинуа Ачебе (Нигерия) – в эссе «Африканский писатель и английский язык» (1975) обвинил Джозефа Конрада в расизме и призвал к созданию «африканского нарратива»,
Полин Хунтонджи (Бенин) – в книге «Африканская философия: миф и реальность» (1976) разоблачил миф о «коллективной африканской мудрости», призвав к развитию критического мышления.
Сегодня ключевую роль в теоретической рефлексии играют такие мыслители, как:
Махмуд Мамдани (Уганда/США) – автор концепции «гражданин и субъект» в колониальном управлении,
Акилли Мбембе (Камерун) – разработчик понятия «некрополитики» и критик постколониального государства,
Самир Амин (Египет) – теоретик «делинкивентного развития» и мировой системы.
Эти авторы формируют то, что португальский социолог Бозе Сантос называет «эпистемологией юга» – альтернативной парадигмой знания, исходящей не из центров империи, а из её периферии.
Заключение главы 1
История науки об Африке – это не линейный прогресс, а борьба нарративов. От мифологизации и отрицания – к признанию сложности, многообразия и агентности африканских обществ. Сегодня перед исследователем стоит задача не просто «изучать Африку», а слушать Африку. Только такой подход позволит преодолеть колониальное наследие и построить подлинно равноправный диалог цивилизаций.
Глава 2. Природно-географическая матрица континента
2.1. Климатические зоны и их влияние на расселение
Африканский континент, охватывающий около 30,3 млн км² и простирающийся от 37° с.ш. до 35° ю.ш., представляет собой уникальную природную лабораторию, где в сжатом пространстве сосредоточены практически все климатические пояса Земли – за исключением полярного. Эта географическая особенность обусловила чрезвычайное разнообразие экосистем, что, в свою очередь, предопределило специфику расселения, хозяйственных стратегий и культурных адаптаций народов Африки.
Центральную роль в формировании климатической структуры континента играет экваториальный пояс низкого давления, мигрирующий в течение года в северном и южном направлениях под влиянием солнечной радиации. Его перемещение определяет сезонность дождей – ключевой фактор для подавляющего большинства африканских обществ, чья экономика остаётся зависимой от осадков.
Выделяют пять основных климатических зон:
Экваториальный климат (Конго, Габон, юг Нигерии, запад Кении). Характеризуется высокой температурой (среднегодовая +24…+26°C), обильными и равномерно распределёнными осадками (1500–3000 мм/год) и отсутствием чётко выраженных сезонов. Такие условия способствовали развитию влажных тропических лесов, которые долгое время ограничивали масштабное земледелие, но обеспечивали богатые ресурсы для собирательства, охоты и рыболовства. Именно здесь сформировались пигмейские народы (мбути, ака), чья культура глубоко интегрирована в лесную среду.
Субэкваториальный климат (Суданский пояс: от Сенегала до Эфиопии). Отличается двумя сезонами – дождливым и сухим. Осадки составляют 750–1500 мм/год. Эта зона стала колыбелью аграрных цивилизаций Западной и Восточной Африки: здесь развивались империи Мали, Сонгай, Канем-Борну, а также ранние формы земледелия у бантуязычных народов. Сезонность дождей требовала сложных знаний в области агрономии и календарных систем.
Тропический (саванный) климат (большая часть Восточной и Южной Африки). Характеризуется продолжительным сухим сезоном (до 8–10 месяцев) и коротким дождливым периодом. Осадки – 500–1000 мм/год. Именно в этой зоне сформировались скотоводческие общества (масаи, фула, нуэр), для которых мобильность и управление пастбищами стали ключевыми стратегиями выживания. Конфликты между земледельцами и скотоводами, обостряющиеся в условиях изменения климата, берут своё начало в этой экологической дихотомии.
Пустынный климат (Сахара, Намиб, Калахари). Осадки менее 250 мм/год, часто – менее 50 мм. Температурные амплитуды огромны: днём +45°C, ночью – до 0°C. Сахара, крупнейшая горячая пустыня мира, долгое время воспринималась как барьер, однако археологические данные свидетельствуют о её периодической «зелёной фазе» (ок. 10–5 тыс. лет назад), когда здесь существовали озёра и пастбища. В историческое время Сахара стала не преградой, а транзитной зоной – благодаря верблюжьим караванам, связавшим Средиземноморье с Суданским поясом.
Субтропический климат (север Африки, юг континента). Умеренные зимы, жаркое лето, осадки преимущественно зимой (в северной части) или летом (в южной). Эта зона наиболее благоприятна для европейского типа земледелия, что объясняет интенсивную колонизацию Алжира, Туниса, Капской провинции.
Важно подчеркнуть: границы между зонами не фиксированы. Под воздействием глобального потепления наблюдается смещение климатических поясов к северу и югу, что ведёт к опустыниванию Сахело-суданской зоны и учащению засух в Восточной Африке. По данным IPCC (2022), к 2050 году до 200 млн африканцев могут столкнуться с острой нехваткой воды.
2.2. Рельеф и гидрография: барьеры и коридоры
Рельеф Африки отличается удивительной простотой в макромасштабе: континент представляет собой гигантское плато, понижающееся к северу и северо-западу. Средняя высота – около 750 м над уровнем моря. Однако именно в этой «простоте» скрыта сложность: плато расчленено рифтовыми системами, горными массивами и обширными низменностями.
Наиболее значимым тектоническим элементом является Восточно-Африканский рифт, протянувшийся от Мёртвого моря до Мозамбика. Именно здесь, в условиях сейсмической активности и вулканизма, сформировались озёра Виктория, Танганьика, Малави – важнейшие источники пресной воды и биоразнообразия. Рифтовая зона также стала колыбелью человечества: в Олдувайском ущелье (Танзания) и в долине реки Омо (Эфиопия) обнаружены останки австралопитеков и ранних Homo.
Гидрографическая сеть Африки асимметрична. Крупнейшие реки – Нил, Конго, Нигер, Замбези – имеют разный характер течения и хозяйственное значение:
Нил – самая длинная река мира (6650 км), но с относительно скромным стоком. Его регулярные разливы обеспечили основу для древнеегипетской цивилизации. Сегодня Нил – объект острой геополитической борьбы между Египтом, Суданом и Эфиопией (строительство ГЭС «Возрождение»).
Конго – вторая по стоку река мира после Амазонки. Её бассейн почти полностью покрыт тропическими лесами. Из-за порогов и водопадов река малопригодна для судоходства, но обладает колоссальным гидроэнергетическим потенциалом.
Нигер – уникальна своей формой «обратной дуги». Она берёт начало в Гвинейских горах, течёт на северо-восток, пересекает Сахару, затем поворачивает на юго-восток. В среднем течении формируется внутренняя дельта – важнейший агроэкологический узел для народов бамбара, сонгай, фула.
Замбези – несёт воды с Центрального плато к Индийскому океану. На ней расположен водопад Виктория – символ природного величия Африки.
Особую роль играют подземные воды. В Сахаре расположены гигантские водоносные горизонты (например, Нубийский), сформировавшиеся в плейстоцене. Их эксплуатация сегодня – вопрос национальной безопасности для Ливии, Чада, Судана.
2.3. Природные ресурсы: от «проклятия» к стратегическому капиталу
Африка обладает одним из богатейших природно-ресурсных потенциалов в мире:
Минеральные ресурсы: 90% мировых запасов платины (ЮАР), 50% золота, 40% хромитов, 30% алмазов, крупнейшие месторождения кобальта (ДР Конго), редкоземельных элементов (Малави, Бурунди).
Энергетические ресурсы: нефть (Нигерия, Ангола, Ливия, Алжир), газ (Мозамбик, Танзания, Египет), уран (Нигер, Намибия).
Биологические ресурсы: 25% мирового биоразнообразия, обширные леса, рыбные запасы океанического шельфа.
Однако наличие ресурсов не гарантирует процветания. Концепция «ресурсного проклятия» (Sachs & Warner, 1995) объясняет, почему страны с высокой долей сырьевого экспорта часто страдают от:
экономической нестабильности (зависимость от цен на мировых рынках),
слабых институтов (коррупция, отсутствие прозрачности),
конфликтов («кровавые алмазы» в Сьерра-Леоне, «конфликтный кобальт» в Конго).
Тем не менее, в XXI веке наблюдается сдвиг в восприятии ресурсов. Они всё чаще рассматриваются не как объект эксплуатации, а как стратегический капитал национального развития. Примеры:
Ботсвана – успешная модель управления алмазными доходами через государственную компанию Debswana и инвестиции в образование;
Руанда – переход от сырьевой зависимости к «зелёной экономике» и цифровым технологиям;
Марокко – лидер в Африке по солнечной энергетике (комплекс Noor в пустыне Сахара).
Таким образом, природно-географическая матрица Африки – это не «данность», а динамическая система, в которой природа и общество находятся в постоянном взаимодействии. Понимание этой системы – необходимое условие для анализа любых социальных, политических и экономических процессов на континенте.
Глава 3. Доколониальная Африка: империи, торговля, верования
3.1. Государственные образования: от вождеств к империям
Долгое время в западной историографии господствовал миф о «первобытной анархии» доколониальной Африки – представление, будто до прихода европейцев на континенте не существовало сложных политических структур. Археология, лингвистика и устная традиция полностью опровергли этот тезис. К XV веку в Африке существовали десятки государств, отличающихся по масштабу, административной сложности и культурному влиянию.
Наиболее яркие примеры:
Империя Гана (IV–XIII вв., ныне юг Мавритании и Мали). Несмотря на название, не имела отношения к современной Гане. Основана народом сонинке. Процветала благодаря контролю над транссахарской торговлей золотом и солью. Столица – Кумби-Салех – была крупным городом с мечетями, рынками и резиденцией правителя («гана» – титул царя). Ибн Хаукаль (X в.) писал: «Царь Ганы владеет таким количеством золота, что никто в мире не может сравниться с ним».
Империя Мали (XIII–XV вв.). Достигла расцвета при Манса Мусе (1312–1337), чьё паломничество в Мекку (1324) стало легендарным: он раздавал столько золота, что на десятилетия обесценил его в Египте. Мали контролировала не только золотые копи, но и центры исламской науки – Тимбукту, Дженне, Гао. В Тимбукту действовали сотни медресе и библиотеки с тысячами рукописей на арабском и аджами (африканские языки арабской графикой).
Империя Сонгай (XV–XVI вв.). Последняя и крупнейшая из западноафриканских империй. При Аския Мухаммеде (1493–1528) была создана централизованная администрация, разделённая на провинции, введена единая система налогообложения, построена армия. Столица – Гао – стала крупнейшим городом Судана.
Аксум (I–VIII вв., ныне Эфиопия и Эритрея). Одно из первых христианских государств мира (приняло христианство в 330 г.). Известно своими обелисками (стелами), монетной чеканкой и контролем над Красным морем. Аксумская цивилизация легла в основу эфиопской государственности.
Великие Зимбабве (XI–XV вв., ныне Зимбабве). Город-крепость из гранита, построенный народом шона. Являлся центром торговли золотом с арабскими купцами на побережье Индийского океана. Открытие руин в XIX веке вызвало споры: европейцы долго отказывались верить, что африканцы способны на подобное строительство.
Королевство Бенин (XIII–XIX вв., ныне Нигерия). Прославилось бронзовыми рельефами и скульптурами, демонстрирующими высочайший уровень художественного мастерства. Политическая система сочетала монархию с советом знати.
Эти государства обладали сложными системами управления, дипломатии, налогообложения и правосудия. Многие из них использовали письменность (арабская графика, геэз в Эфиопии), вели хроники, отправляли посольства.
3.2. Торговые сети: Сахара, Индийский океан, внутренние маршруты
Экономическая жизнь доколониальной Африки была интегрирована в глобальные торговые системы задолго до прихода европейцев.
Транссахарская торговля связывала Западную Африку с Северной. Основные товары:
из Африки: золото, рабы, слоновая кость, колья;
из Северной Африки и Европы: соль, медь, ткани, лошади, книги.
Торговля осуществлялась караванами из тысячи и более верблюдов. Ключевые торговые города: Сиджильмаса (Марокко), Аудагуст (Мавритания), Тимбукту, Дженне.
Индийскоокеанская торговля связывала Восточную Африку с Аравией, Персией, Индией и Китаем. На побережье возникли суахилийские города-государства: Килва, Момбаса, Занзибар, Могадишо. Они строили каменные дворцы, мечети, вели активную морскую торговлю. Китайский адмирал Чжэн Хэ в XV веке посещал побережье Кении.
Внутренние торговые маршруты соединяли регионы континента. Например, соль из озера Чад шла на юг, медь из Катанги (ныне ДР Конго) – на север, раковины каури из Мальдив – использовались как валюта в Западной Африке.
Торговля способствовала не только экономическому росту, но и культурному обмену: распространению ислама, технологий (металлургия, ткачество), языков (суахили как лингва франка Восточной Африки).
3.3. Религиозный плюрализм: анимизм, ислам, христианство
Религиозная карта доколониальной Африки была исключительно разнообразной.
Традиционные африканские религии (часто ошибочно называемые «анимизмом») представляли собой сложные космологии, в которых:
существовал верховный бог (Ньяме у эве, Чукву у игбо, Нзамби у конго),
активную роль играли духи предков, природные силы, божества-покровители,
важнейшими посредниками были жрецы, знахари, оракулы (например, оракул Ифе у йоруба).
Эти верования глубоко интегрированы в социальную жизнь: циклы посевов и уборки, инаугурация вождей, разрешение конфликтов – всё сопровождалось ритуалами.
Ислам проник в Африку уже в VII веке – сначала в Египет, затем через Сахару и по побережью Красного моря. К XIV веку ислам стал доминирующей религией в Северной, Сахельской и частично Восточной Африке. Однако исламизация происходила синкретически: местные обычаи и верования не отвергались, а вплетались в исламскую практику. Так возникли уникальные формы ислама – суфийские братства Тиджания и Кадирия в Западной Африке, шафиитский мазхаб на побережье.
Христианство появилось в Африке раньше, чем в Европе. Эфиопия приняла его в IV веке, Нубия (ныне Судан) – в VI веке. Эфиопская православная церковь сохранила автономию и уникальные традиции (геэзская литургия, аркадские храмы в Лалибэле).
Таким образом, доколониальная Африка – это не «дикая земля», а мозаика цивилизаций, связанных торговлей, дипломатией и культурным обменом. Её наследие продолжает жить в современных государствах – в языках, обычаях, политических институтах и коллективной памяти.
Список литературы к Тому I
(Источники и исследования, использованные в Главах 1–3)
На русском языке
Беккер Е. Д. История Северной Африки в новое и новейшее время. М.: Наука, 1971. – 416 с.
Бромлей Ю. В. Очерки теории этноса. М.: Наука, 1983. – 384 с.
Ганкин С. И. История Африки: от древнейших времён до наших дней. М.: Весь Мир, 2005. – 528 с.
Давыдов А. А. География Африки. М.: Академия, 2012. – 304 с.
Жуков Е. М. (ред.). История Африки в новое время. М.: Наука, 1985. – 608 с.
Ковалёв А. А. Доколониальные государства Западной Африки. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2001. – 224 с.
Лебедев А. В. Африка в мировой системе: от колониализма к многополярности. М.: ИМЭМО РАН, 2020. – 312 с.
Потехин И. А. Освободительная борьба народов Африки. М.: Изд-во АН СССР, 1961. – 288 с.
Смирнов С. П. Традиционные религии Африки. М.: Восточная литература, 2008. – 192 с.
Черкасов П. П. Советская африканистика: история и перспективы. М.: Институт Африки РАН, 1998. – 144 с.
На английском и французском языках
Achebe, C. Things Fall Apart. London: Heinemann, 1958. – 209 p.
Amin, S. Eurocentrism. New York: Monthly Review Press, 1989. – 224 p.
Davidson, B. Africa in History. Revised ed. New York: Simon & Schuster, 1995. – 416 p.
Fage, J. D. A History of Africa. 4th ed. London: Routledge, 2001. – 464 p.
Hegel, G. W. F. Lectures on the Philosophy of World History. Trans. H. B. Nisbet. Cambridge: CUP, 1975. – 528 p.
Iliffe, J. Africans: The History of a Continent. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2007. – 384 p.
Mamdani, M. Citizen and Subject: Contemporary Africa and the Legacy of Late Colonialism. Princeton: Princeton UP, 1996. – 368 p.
Mbembe, A. On the Postcolony. Berkeley: University of California Press, 2001. – 260 p.
Oliver, R., Fage, J. D. A Short History of Africa. London: Penguin, 1962. – 224 p.
Rodney, W. How Europe Underdeveloped Africa. London: Bogle-L’Ouverture, 1972. – 312 p.
Sachs, J. D., Warner, A. M. Natural Resource Abundance and Economic Growth. NBER Working Paper No. 5398, 1995.