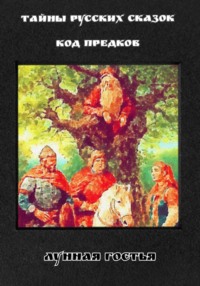Полная версия
Заповедные Сказки

Лунная Гостья
Заповедные Сказки
Заповедный Лес
Стоит меж трёх деревень – Сосновки, Ельника да Медвежьего Угла – лес дремучий, Заповедным прозванный. Да только сторожа при нём не ходят, и столбы с письменами не стоят, а Заповедный он от того, что сам себя бережёт, сам гостей выбирает. Доброго человека с чистым сердцем – пустит, дорогу укажет. А злого да корыстного – по кругу водить станет, покуда не выйдет тот сам, откуда пришёл, ни с чем. Да и тропы в тот лес ведут совсем мудрёные. Идёшь, бывало, прямо – а выйдешь вбок. Дуб вчера справа стоял – сегодня слева красуется. Деревья там старые-старые: помнят они и песни прабабушкины, и сказки прапрабабушкины, помнят, как и гремело здесь, и как тихо было. Живут в том лесу звери да птицы, как люди добрые в деревне исконной – у каждого дом, у каждого своё дело, друг дружке помогают, друг о друге радеют. Барсуки норы роют глубокие, с переходами да закоулками: тут спальня устроена на мягких листьях, там кладовая с припасами, а вон гостевая горница для друзей. Белки домики вьют в кронах еловых, из веток гибких да мха пушистого, чтоб тепло было зимой, чтоб детишкам было уютно. Бобры хатки ладят у речки Тихой – брёвнышко к брёвнышку, веточка к веточке, всё так складно, что диву даёшься. Над дверью ежиного жилища, что под дубом-стародубом в корнях укрылось, венок висит всегда – летом из трав душистых, зимой из сушёных. Знают все в лесу: коли венок на двери, значит, здесь Ежиха-лекарка живёт. Знает она, какой травой жар унять, каким корешком боль утихомирить, какими листьями рану заживить. А у речного берега мельница стоит бобровая – жернова в ней крутятся неспешно, перемалывают жёлуди да орехи на муку белую, и слышен скрип тот по всему лесу – мерный, убаюкивающий. Времена года в Заповедном лесу по очереди приходят и хозяйничают, да только каждая хозяйка со своим нравом, каждая со своими дарами заявляется. Весна-красна крадётся тихонько: то проталинка почернеет, то ручеёк зазвенит, а там, глядишь, всё разом зазеленело – будто изумрудным покрывалом лес укрыли. Звери из нор выходят, зимний сон с себя стряхивают, за дела принимаются. Бобры плотины чинят, дятлы стволы простукивают, белки свои домики проветривают. Птицы из тёплых краёв возвращаются, вести приносят дальние. Лето красное приходит с жарой, а та смолу на соснах плавит, с Солнцем, которое в зените стоит долго. Воздух тогда густой становится, сладкий. Медведь Потапыч бортничает – дупла пчелиные проверяет, мёд сладкий собирает. Лисица Патрикеевна за станком сидит, половички ткёт узорные. Зайчата прыгать учатся, кувыркаться, силушку молодецкую пробуют. А в самую волшебную ночь года, на Ивана Купалу, у старого пруда гулянье справляют. Светлячки в траве огоньки зажигают – зелёные, таинственные. Лягушки хором поют, концерт устраивают. Девицы из деревни приходят и венки плетут, по воде пускают – чей дальше уплывёт, та первая замуж пойдёт. Старики про папоротник сказывают, что цветёт он лишь в эту ночь одну, да только цвета того никто не видывал – есть в Заповедном лесу тайны, кои не для разгадывания. Осень-матушка с туманами приходит, а те по низинам стелются, землю укрывают. Пахнет листвой прелой, яблоками, дымком костровым. Начинается пора великая – сбор урожая, заготовки на зиму долгую. Белки грибы сушат гирляндами, мыши зёрна по зёрнышку в норы таскают, медведь последний мёд выбирает – тёмный, осенний. По субботам лесными жителями на поляне торг открывается. Кто орехи кедровые на яблоки сушёные меняет, кто пряжу льняную на мёд выменивает. Торгуются, спорят по-доброму, смеются. К вечеру расходятся довольные – у всякого припасено на зиму. На исходе сентября праздник Урожая справляют – самый сытный да радостный в году. Столы на поляне накрывают – пироги с ягодой, каша ореховая, мёд в горшках глиняных, грибы да овощи. Едят-пьют, веселятся, благодарят лес за дары его. И лес в ответ листвой шелестит – берегите меня, и я вас не оставлю. Зима-волшебница потом снегом белым всё укрывает. Многие в норах до весны засыпают – медведи, барсуки, ежи. Другие обычной жизнью живут, только помедленнее, поосторожнее. Мышь под снегом по тоннелям бегает. Белка припрятанные орехи достаёт. Заяц шубку белую надевает, по сугробам скачет-прыгает. По четвергам в доме у Совы-премудрой школа лесная собирается. Учит она молодёжь следы читать на снегу белом, звёзды узнавать на небе ночном, погоду по приметам угадывать. А по воскресеньям ходят звери друг к другу в гости. Чай липовый с мёдом пьют, орехи грызут, истории сказывают. Даже, если за окном метель поёт-завывает, в доме-то тепло да уютно, дымком пахнет, яблоками сушёными. Каждый в Заповедном лесу своё дело знает. Синица вести разносит от дома к дому – она шустрая. Крот подземные ходы прокладывает, за родниками смотрит. Дятел деревья лечит, короеда из коры выковыривает. Филин старый предания лесные хранит, тех, кто поссорился, мирит – не держите, мол, зла, жизнь коротка. Случаются в том лесу истории всякие – весёлые да грустные, поучительные да удивительные. Об этих историях заповедные сказки и сказывают. Переворачивайте страницу – первая сказка начинается…
Месяц Мёда
Летних дней, казалось, будет ещё много. Явился Август в Заповедный лес, жарой дышал, солнцем палил. Воздух густел, будто мёд в него кто намешал – двигаться лениво становилось, дышать сладко, а время текло неспешно, в полуденной истоме застревало. Травы на полянах выгорали до цвета пергамента старинного. Листья на деревьях тяжелели, словно налились за лето чем-то важным и теперь раздумывали – держаться иль падать. Река Тихая мелела, камни круглые обнажала, на которых стрекозы грелись – крылья у них, будто из слюды да ветра сотканы. В такие дни и лес жил медленно: звери двигались еле-еле, каждое движение растягивали, словно карамель тянули. Белка Кудряшка с ветки спускалась не прыжками резвыми, а перетекала, как вода рыжая. Барсук Борисыч у норы своей сидел, решето чинил старое – лапы сами работали, а мысли далеко летали, к осенним дождям да зимним сугробам. Одни пчёлы августовской дрёме не поддавались. Гудели они упрямо да деловито, словно секрет знали, что другим не ведом: лето уходит, пора торопиться, пора год трудовой завершать. А в дупле старом, на краю поляны Медвежьей, жил рой, который ещё прапрабабушку Потапычеву помнил. Пчёлы там строгие водились, с норовом, чужака ужалят без разговоров. А медведя узнавали по духу, по поступи тяжёлой, по особому покашливанию, с которым он к дуплу подходил. Узнавали и приглушали своё жужжание, хоть и ворчали на языке своём пчелином: опять, мол, явился, опять мёд забирать станет. Потапыч же все борти в лесу знал и чувствовал их, будто нитями невидимыми связан с ними был. Проснётся поутру, ещё в полусне, а уже понимает: нынче к трём соснам на взгорке идти надобно, там пчёлы беспокоятся, либо соты переполнились, либо шершень повадился. А завтра – к липе у болота, там семья молодая, проверить надо, справляются ли. Была, однако, одна борть особенная, к которой Потапыч просто так не подходил. Стояла ель старая на горке Лисьей. В дупле её жили пчёлы, они нектар с цветов особенных собирали – а цветы те лишь в новолуние расцветали. Мёд же тот в темноте светился светом янтарным, а пах так, что аромат его цветными кругами перед глазами видели. Брал Потапыч оттуда малость, раз в год всего, и берёг для редких случаев – когда кто совсем занеможет, когда обычное лечение не поможет. Да вот стал в этом году август капризным. То жара нестерпимая, то вдруг ветер с севера налетал – холодный, сырой, осенним духом веял. Звери нервничали – не ведали, сколько времени на заготовки осталось, успеют ли, хватит ли на зиму долгую. Мышь Пискунья каждое утро мешочки с зерном на порог выкатывала, пересчитывала. Шептала, усами шевелила: овёс – пять мешков, рожь – три, семечки – два. Мало, катастрофически мало. Хоть в прошлом году столько же было, и хватило, и даже осталось, да только когда тревога изнутри точит, разве об этом вспомнишь? Заяц Кося вовсе не спал, бегал по лесу, то за одно хватался, то за другое. То капусту квасить надо, то нору утеплять, то дрова заготавливать. Жена его, Зося, лишь вздыхала: каждый год одна и та же песня – в последний момент спохватится. А Ёж Ерофеич в доме под корнями сидел, травы сушил. Развесил пучки по всем углам – зверобой, душица, мята, тысячелистник. А пахло так, что голова кружилась. Ежиха травы новые приносила, на столе раскладывала, и оба разбирали – это в чай пойдёт, это для компрессов, это для растираний. Система у них была, порядок. Ерофеич любил приговаривать: «Лес сам себя вылечит, знать только надо, где что растёт». И вот в один из тех дней августовских к берлоге Потапыча звери и потянулись. Первой Кудряшка прискакала. Села на пень, хвостом обернулась. – Потапыч, дома али нет? Из берлоги ворчание сонное донеслось: – Кудряшка, жара стоит. Спать хочу. – Спать? – белка аж подпрыгнула. – У меня бельчата горло надрывают, мёду просят! Говорю – потерпите. Они – не будем! Я им – орехи грызите. Они – надоели орехи, сладенького хотим! – Детвора всегда сладкого хочет, – из берлоги морда медвежья высунулась, помятая от сна. – Вон и я в малолетстве… – Твоё малолетство сто лет назад было, – перебила Кудряшка. – Дашь мёду али нет? Потапыч зевнул так, что все зубы видны стали. – К вечеру приходи. Белка тут же с пня сорвалась, вверх по стволу умчалась – точно рыжая молния в зелени. Следом Борисыч пришёл. Тяжело, вразвалку, словно мешок с камнями на спине нёс. Положил у порога три полена. – На растопку, – коротко молвил. – Мне гречишного, коли есть. – Есть. – К вечеру зайду. Барсук той же медленной походкой удалился. У него всё так – слов мало, дела много. Потом Пискунья появилась. Катила перед собой мешочек, так он почти больше её самой был. – Овёс, – пропищала. – Отборный! Три дня выбирала! – Пискунья, милая, – Потапыч за ухом почесал, – у меня овса на двадцать зим уж накопилось. – И что с того? Много не бывает! – мышь щёки надула. – Кашу любишь? – Люблю. – Вот! Значит, бери овёс, давай мёд. Медведь сдался. С Пискуньей спорить – себе дороже выйдет. К полудню жара совсем невыносимой стала. Потапыч к реке пошёл, с головой окунулся. Вода его прохладными лапами обняла, липкость смыла, ясность мыслям вернула. Лежал он на мелководье, в небо глядел. Облака плыли медленно, словно рыбы огромные в океане синем. Идти к бортям надо было. Пчёлы ждали, соты тяжелели, а у него тут с утра очередь. Медведь из воды вылез, отряхнулся. Капли во все стороны полетели, в них на солнце радуги маленькие вспыхивали. Первая борть – дуб на тропе Волчьей. Потапыч подошёл, дымарь разжёг. Трутовик тлел, дым белый выпускал, древностью лесной пахнущий. Пчёлы недовольно загудели, но затихли. Медведь лапу в дупло просунул осторожно, с уважением – словно в чужой дом входил, где его терпят, да не очень-то рады. – Простите, что беспокою, – пробормотал. – Возьму малость, вам оставлю. Одна пчела всё равно вылетела, в ухо ужалила. Потапыч поморщился, лапу не отдёрнул. Знал – справедливо. Он ведь в их жилище лезет. Соты вышли тяжёлые, золотые, липой да летом пахнущие. Медведь треть срезал, в корзину уложил. Мёд тёплый был, тёк медленно, золотыми нитями наматывался. К вечеру, когда солнце садиться начало и тени длинными да фиолетовыми стали, у берлоги звери снова собрались. Потапыч мёд разливал ложкой деревянной большой. Каждому отмерял столько, сколько надобно, ни больше ни меньше. Последним Кося прибежал. Мялся, переминался, уши дёргал. – Потапыч, я… У меня зайчата кашляют. Ежиха сказала – мёд липовый нужен. А у меня… Осенью капусты принесу, слово заячье даю! Медведь молча мёд в горшочек налил, зайцу протянул. – Три раза в день, по ложке. И не надо мне капусты. Следи только, чтоб зайчата поправлялись. Кося горшочек схватил, глаза заблестели. – Ты… Потапыч, лучший! Заяц прочь умчался прыжками длинными, словно земли не касался, а по воздуху летел. Когда все разошлись, Потапыч на завалинке сел и смотрел, как закат гаснет. Небо розовым стало, потом сиреневым, потом тёмно-синим. Звёзды появились – одна, другая, потом россыпью целой. Лапы ныли, спина болела, а на душе покой всё же был. Так и проходил август – в работе, в заботах, в суете бесконечной вокруг мёда, но и было в этом что-то правильное, древнее. Пчёлы нектар с тысячи цветов собирали. Потапыч часть мёда забирал, с лесом делился. Лес ему зиму пережить помогал. И все связаны были сетью невидимой – из мёда, помощи, памяти да благодарности. Медведь встал, в берлогу зашёл, а там углу горшочек маленький – мёд из той самой борти на горке Лисьей, светящийся мёд. Потапыч его взял, открыл. В темноте берлоги мёд так и светился светом янтарным мягким, все стены освещал. Медведь коготь в него макнул, попробовал. Вкус был, словно из лунного света да тумана соткан, из росы да неба звёздного. Такое словами не опишешь – пробовать надо. Он горшочек закрыл, в самый дальний угол убрал. Пусть до зимы стоит. А когда холода с метелями придут, когда лес под снегом уснёт, друзья соберутся, и он мёд тот достанет. И все попробуют, и вспомнят август, и вспомнят, что даже в самые тёмные дни года свет существует – знать только надо, где его искать. А затем Потапыч на ложе из листьев сухих да трав прилёг. За окном цикады стрекотали вечерние песни, вдали ухал Филин. Скоро придёт сентябрь с первыми жёлтыми листьями. Но это потом будет. А пока медведь глаза закрыл, в сон провалился – густой да сладкий, как мёд из старой борти на поляне Медвежьей.
Вестница Осени
Август подходил к концу. Дни стояли ещё жаркие, солнце пригревало, как в разгар лета, да только что-то неуловимое в воздухе менялось. Ночи уже длиннее становились, а роса по утрам холоднее. Пчёлы гудели тише, устали они за лето трудовое. Белка Кудряшка проснулась на рассвете от ощущения чего-то странного и непонятного. Нос наружу высунула, замерла. Воздух пах иначе, чем накануне. Летняя смола да земля нагретая смешались с чем-то новым – с сыростью, увяданием, дымом далёких костров осенних. Кудряшка вниз по стволу спустилась – и увидела её. По тропинке лесной шла Дева. Высокая, стройная, в платье из лепестков диких роз сшитом. Розы разные были – белые, розовые, красные, последние – те, что в конце лета цветут и знают, что скоро увянут. Платье на каждом шагу шуршало-шелестело, лепестки осыпались и в воздухе таяли, не касаясь земли-матушки. Волосы у Девы цвета льна были, и в них паутинки запутались – серебряные нити тонкие, какие паучки в августе плетут между ветвей. За спиной шлейф из тумана тянулся. Белый, густой, по земле стелился молоком разлитым. Туман корни деревьев обволакивал-окутывал, между камнями просачивался, на траве каплями мелкими оседал. Дева шла медленно, задумчиво. Там, где нога её ступала, трава слегка блекла, яркую зелень летнюю теряла. Листья на деревьях тихо вздыхали, и на некоторых желтизна первая проступала – едва заметная, как предчувствие, как дыхание осени грядущей. Кудряшка на ветке замерла, дыхание затаила. Вестница. Та самая, что раз в год приходит, в самом конце августа, чтобы лес предупредить: лето кончается, к осени готовьтесь, времени мало осталось. Дева посреди тропинки остановилась, лицо к небу подняла. Небо ещё летним было – голубым, ясным, высоким. А она руку подняла, и с ладони её ветерок лёгкий сорвался: прохладный, дождём да увядающими цветами пахнущий. Ветерок по лесу полетел, деревьев коснулся, травы, воды в реке Тихой. Лес вздрогнул весь, как от долгого жаркого сна проснулся. – Вот и пришла она, – прошептала Кудряшка и вверх метнулась молнией рыжей, к домику своему. Бельчат разбудить надо было. Вестница пришла – значит, пора с запасами торопиться, пора день и ночь работать без устали. Скоро придёт осень настоящая, а за ней зима-матушка суровая. К полудню весть по всему Заповедному лесу разнеслась, до последней норки дошла. – Видел? – спрашивал Барсук Борисыч у Ежа Ерофеича. – Видел-видал, – кивал Ёж. – У ивы старой проходила. Туман за ней рекой тёк белой. – Значит, пора пришла. – Пора-времечко. Стояли они возле дома Ерофеича, воздух нюхали. Запах и впрямь переменился – к летним ароматам нота осенняя примешалась, едва уловимая. – Дрова заготавливать надобно, – молвил Борисыч. – И нору утеплять основательно. Времени меньше осталось, чем я думал. – Откуда ведаешь? – Вестница в платье из роз поздних явилась. Когда так – значит, осень быстро придёт, а зима ранняя будет. Ерофеич согласно кивнул. Он тоже приметы те знал-ведал. В дом пошёл – травы проверять, последние сборы сушить, пока погода держится тёплая. Вестница весь день по лесу бродила, никуда не спешила, ни с кем не говорила. Просто шла тихой поступью, и везде, где проходила, всё слегка менялось. Цветы на полянах вянуть начинали, травы по краям блекли, ягоды на кустах последней сладостью наливались – скоро собирать их надо будет, пока не осыпались даром. Медведь Потапыч встретил её у старой борти на горке Лисьей. Проверял он пчёл после сбора мёда, думал-гадал, хватит ли им запасов на зиму долгую. Обернулся – стоит Дева, смотрит очами тёмными. Глаза тёмные, глубокие, как вода в озере лесном на закате дня. Потапыч шляпу из бересты снял почтительно, поклонился в пояс низко. – Здравствуй, Вестница-матушка. Дева кивнула. Голоса у неё не было – никогда она вслух не говорила, ни единого слова не молвила. Потапыч и так её понял, сердцем учуял. Спрашивала она: готов ли он к зиме грядущей, всё ли успел, помнит ли о тех, кому помощь нужна будет? – Мёд собран, – сказал медведь. – Дрова наколоты горами, берлога почти готова. Успею всё, что надобно. Дева на него внимательно посмотрела взглядом проникающим, и в том взгляде тревога таилась. Знала она то, чего звери не знали – когда именно осень придёт, какой зима будет – милостивой али суровой, кто может холода не пережить, не дожить до весны. Каждый год кто-то весной не просыпается. Каждый год кто-то теряется в снегах белых. Потапыч это тоже ведал. Потому и кивнул серьёзно, без улыбки. – Я тем помогу, кому трудно придётся, – сказал он. – Обойду всех соседей, запасы проверю. Как всегда сделаю, как заведено. Дева та ладонь ему на плечо широкое положила. Прикосновение лёгким было, прохладным, как роса утренняя на траве. В нём благодарность чувствовалась и надежда, может быть. Потом она развернулась плавно, дальше пошла тихой поступью, и туман снова за ней шлейфом белым потянулся. Медведь ей вслед смотрел долго. Лепестки роз с платья её осыпались, в воздухе таяли призрачно, аромат оставляя едва уловимый – сладкий да печальный, прощание с летом красным. Потапыч шляпу надел, корзину плетёную взял. Вестница предупредила – торопиться надобно, мешкать нельзя. К вечеру Дева до старого пруда дошла, где летом Ивана Купалу справляли весёлым хороводом. Вода в пруду тёмной была, гладкой, зеркалом чистым. На поверхности кувшинки качались – последние, уже увядать начинавшие, красоту теряющие. Дева на берегу присела, пальцы тонкие в воду опустила. Вода вздрогнула, рябью пошла круговой. Сидела она да на своё отражение глядела. Лицо бледное-прекрасное, задумчивое. В волосах паутинки на закатном свете серебрились-переливались. Платье из роз от ветерка лёгкого шелестело. Вестница всегда одна приходила, без свиты, без спутников. Всегда молчала, всегда до рассвета уходила прочь. Никто её по-настоящему не знал – откуда она родом, где живёт-обитает, почему именно она лес о смене времён предупреждает. Может, это дочь самой Осени-королевы, вперёд посланная. Может, дух последнего дня летнего. Может, что-то совсем иное, непостижимое. Звери не спрашивали, не допытывались. Просто знали: когда Вестница приходит – готовиться надо без промедления. Появление её – знак верный, который не заметить нельзя и игнорировать не должно никоим образом. Дева встала плавно, оглядела лес вокруг. Лес замер весь, дыхание затаил. Птицы смолкли разом. Ветер затих совсем. Только туман по земле стелился неспешно, мягкий да тихий, как дыхание великана спящего в земле глубокой. Она руки подняла к небу высокому, и с ладоней её семена посыпались роз диких. Маленькие, твёрдые, в оболочках красных. Упали они на землю-матушку, в почву зарылись глубоко. Через зиму долгую, весной, когда снег растает водой звонкой, семена те прорастут. И снова розы цвести будут благоухая следующим летом, в другом году, в новом круге времени.
Вестница платье своё лёгкое разгладила. Лепестки роз на подоле уже вянуть начали, цвет терять. Скоро от платья только листочки сухие останутся, и те в прах рассыпятся… Так каждый год происходит – приходит она в конце августа в платье из роз живых, а уходит в лохмотьях из лепестков увядших. Небо темнело. Звёзды первые над лесом зажигались одна за другой. Дева на них взглядом долгим посмотрела, потом дальше двинулась лёгкой поступью. Туман за ней стелился, деревья окутывал покрывалом белым, привычный лес в царство призрачное превращал. К утру туман тот растает бесследно, и звери с одной мыслью проснутся: Вестница здесь была, пора работать без устали, времени мало. Лес же летним пока остался – зелёным, шумным, живым-веселым. Солнце ярко ещё светило. Пчёлы в цветах гудели весьма деловито, а птицы в ветвях пели песни радостные. Только воздух уже другим был, изменённым. В нём прохлада жила, днём едва заметная, а по ночам ощутимая. И запах изменился – к смоле да травам что-то осеннее добавилось, что-то увядающее, что-то прощальное. Белка к земле спустилась проворно, оглядела всё зорким глазом. На траве роса блестела каплями – холодная, обильная. Несколько листьев под дубом всё-таки пожелтело, да и куст розовый у поляны последние лепестки сбросил на землю. Кудряшка хвостом тряхнула решительно, к тайникам своим побежала вприпрыжку. Запасы проверить надо, прикинуть-рассчитать, сколько ещё собрать нужно. А где-то далеко-далёко, на краю Заповедного леса, Вестница в последний раз остановилась. На деревья посмотрела прощальным взглядом, на небо, на землю. Платье её из роз почти рассыпалось – остались лишь лепестки редкие, на нитях тонких державшиеся. Дева сама себе кивнула тихо – всё сделано правильно – и за границу леса шагнула лёгкой поступью. Туман за ней сомкнулся покрывалом. Исчезла она, в воздухе растворилась, растаяла без следа. Через несколько дней Сентябрь-кормилец придёт. Потом сама Осень явится во всей красе – не вестница, а хозяйка, та, что весь лес в золото да багрянец раскрасит, та, что дожди да ветра принесёт холодные, та, что до первого снега править будет безраздельно.
Золотой Сентябрь
Вот и пришёл Сентябрь в Заповедный лес во всей красе своей, Солнцем золотым венчанный. Светило оно иначе, чем летом, – ласкало, лучами косыми да медовыми по земле стелющимися. Где луч упадёт – там золотая капелька лежит. Паутинки меж деревьев серебром вспыхивали, роса в траве самоцветами рассыпалась. Наполнился лес запахами дивными – да такими, что дух захватывало, сердце замирало. Смола на соснах под солнцем плавилась, дух густой да пряный источала – хоть ковшом черпай, хоть в кувшины разливай. Под елями хвоя опавшая лежала ковром рыжим, древностью дремучей пахнущим. Листья первые с деревьев кружились-падали, на землю ложились златом да багрянцем, преть начинали, выдыхая аромат сладковатый – как вино старое, в погребах хранимое. У яблонь диких на опушке урожай созрел нынче богатый. Яблочки хоть и мелкие были, хоть и кислые, да пахли так, что весь край леса в том про аромате купался. Падали они в траву, с глухим стуком лопались, и тогда запах тот усиливался стократ, с духом земли-матушки да увядающих цветов сплетался в венок один. Цветы последние – золотарник да вереск догорали, будто свечи восковые. Лепестки осыпались снегом цветным, но даже умирая, благоухали – медово, терпко, прощально. Шишки на елях да соснах смолой налились, тяжестью наполнились. Орехи кедровые в панцирях крепких тоже дожидались часа своего. Полон был лес, до краёв полон, через край переполнен. Щедрость то была великая перед постом зимним долгим. Всё разом созрело, всё себя дарило – бери-не-хочу, собирай-не-ленись, запасай-не-скупись! Белка Кудряшка по лесу носилась вихрем рыжим, огоньком весёлым. Грибы! Грибы-грибочки на каждом шагу! Боровики под дубами – толстоногие богатыри, шляпки коричневые, будто отполированные. Подосиновики под осинами – красноголовые молодцы на ножках белоснежных. Лисички в ельнике – золотой россыпью в бархате мшистом. Опята на пнях – семьями дружными, гроздьями весёлыми. Срезала Кудряшка грибы камешком острым, на прутики тонкие нанизывала, на сучках развешивала. Висели грибы гирляндами праздничными, на ветерке покачивались, на солнышке подсыхали. Через семь дён да семь ночей станут они лёгкими, и в кладовую их убрать можно. Орехи! Лещина урожай щедрый отдала. Таскала Кудряшка орехи в дупло – щёчками, набивала их так, что мордочка квадратной становилась. Бегала туда-сюда, туда-обратно, лапки мелькали, хвост знаменем развевался. В дупле орехи горкой росли, холмом наливались. А бельчата от восторга пищали-визжали, орехи хватали-грызли, скорлупой во все стороны плевались. – Мамка-матушка, а много их ещё будет? – пропищал младшенький. – Видимо-невидимо! – на бегу отвечала Кудряшка. – Столько, что всю зимушку-зиму по-царски жить станем! Шишки еловые да сосновые на ветках тяжкими гроздьями висели. Кудряшка их срывала и скидывала вниз, а потом спускалась, собирала-складывала, в тайники свои потаённые уносила. Зимой семена из них вылущит – мелкие, маслянистые, ядрёные. К вечеру падала Кудряшка без сил последних: лапки дрожали от усталости великой, спинку ломило, в глазках темнело. Зато на душе покой да радость – запасов день ото дня больше, значит, зима сытой будет. Мышь Пискунья в подземелье своём тоже трудилась, не покладая лапок маленьких. Норки, переходы, закоулки потаённые – всё доверху припасами наполнено. Зерно в мешочках из листьев больших. Семена в туесках берестяных. Ягоды сушёные в горшочках глиняных. Коренья, травы целебные, жёлуди, орешки буковые – всего в достатке. Таскала Пискунья всё, что глаз видел да нос учуял. По зёрнышку одному, по ягодке единственной. От зари до зари, от звезды до звезды. Лапки тонкие мелькали, усики трепетали, носик вынюхивал – где ещё что спрятано, где ещё найти можно? У яблони дикой плоды упавшие подбирала, кусочки маленькие откусывала и в норку тащила. Яблоки, конечно, кислые, долго не хранятся, зато витаминами богатые. Жевала Пискунья, от кислоты мордочку кривила, да не останавливалась. Перед зимой всякое полезное в прок идёт! В роще ореховой лещину заготавливала: орехи большие-пребольшие, тяжёлые-претяжёлые, а она их перед собой катила, словно колёса деревянные. Закатит в норку, дух переведёт, за следующим бежит. К концу дня лапки до крови стёрты, да Пискунья духом не падала. Зима не спросит, устала ты али бодра. Зима своё возьмёт – готовься не готовься. – Пискунья-голубушка, ты себя до изнеможения доведёшь такой работой! – сказала ей Ежиха, встретив у ручья студёного. – Лучше сейчас до изнеможения, чем зимой до голодной смерти! – огрызнулась мышь и потащила орех очередной. Ежиха головой покачала, словечка не молвила. У всякого зверя свой норов, своё разумение жизни. Барсук Борисыч кладовую новую устраивал, подземные палаты расширял. Старая до краёв заполнилась, новая требовалась. Копал он степенно, методично, без суеты пустой. Земля из-под лап фонтаном летела – чёрная, жирная, дождями напоённая да корнями пронизанная. Борисыч в холм углубился, коридор длинный прорыл, в конце комнату просторную выкопал – а там хоть пир устраивай! Туда припасы стаскивал горами несметными. Жёлуди – мешками тяжёлыми. Орехи – возами целыми. Коренья – пучками душистыми. Грибы сушёные, яблоки вяленые, ягоды в сахаре медовом. Барсучиха-хозяюшка помогала ему усердно: раскладывала всё по полочкам ладным, бирками берестяными подписывала. «Жёлуди – месяц сентябрь». «Грибы – боровики отборные». «Яблоки – дикие душистые». У неё порядок строжайший был, система премудрая. Борисыч только головой качал – сам бы он кучей всё свалил, а жена любила, чтоб красиво да по местам, чтоб глаз радовался. – Зима в нынешнем году долгая будет, – приговаривала Барсучиха, грибы по сортам раскладывая. – Знать надобно, где что лежит-хранится. А то в темноте станешь рыться, искать, нервы тратить попусту. – Права ты, моя разумница, – соглашался Борисыч и нёс охапку новую. К концу сентября нора их в терем подземный превратилась. Комнаты светёлками, коридоры переходами, кладовые хранилищами, спальни опочивальнями. Всё прибрано-убрано, запасов на три зимы хватит, не то что на одну. А Заяц Кося по лесу метался в панике лихой, в суете заячьей. – Зося! Зосенька-душенька! – кричал он. – Где капуста обещанная?! – Какая капуста? – откликнулась из норы зайчиха. – Ну та, что я Потапычу за мёд обещал! Памятуешь? – Памятую. А ты заготовил? – Запамятовал! Зося из норы вышла, на супруга взглядом долгим посмотрела. – Каждый год песня одна да та же. Обещаешь – забываешь, забываешь – волнуешься, волнуешься – как угорелый бегаешь. – Исправлюсь! Зарок даю! Слово заячье крепкое! – Слышала я твои зароки сто раз без малого. Поскакал Кося на огород общий, который лесные жители на поляне дальней возделывали. Росла там капуста – белая, тугая, листья хрустящие. Срезал Косой кочанов добрых несколько, в мешок холщовый сложил, к Потапычу поволок. Медведь же у берлоги сидел, корзину старую переплетал. – Потапыч-батюшка, вот, принёс-доставил! – выдохнул Кося, мешок к ногам сваливая. – Капуста обещанная. Как слово давал. Потапыч на мешок глянул, потом на зайца. – Кося, ты ведь осенью обещал принести. А осень только зачалась. – Ну… я решил пораньше. Чтоб не запамятовать, как в годы прошлые бывало. – А в позапрошлом году запамятовал? – И в позапрошлом, – вздохнул Заяц. – И в том, что перед позапрошлым. Но в нынешнем не запамятовал! Вот она, капуста-матушка, перед очами лежит! Потапыч усмехнулся добродушно, мешок принял. – Ладно уж, благодарствую. Как зайчата твои, после мёда поправились? – Поправились! Скачут-прыгают, матери покоя не дают, жизнью радуются! Спасибо тебе, Потапыч-кормилец! Заяц прочь умчался прыжками длинными, и на душе у него легче стало. Хоть одно дело своевременно сделано – уже диво дивное! Медведь Потапыч обходил владения лесные, соседей навещал. К Кудряшке заглянул – грибы гирляндами красуются, орехов горы золотые, порядок образцовый. К Пискунье заглянул – норка битком набита, мышь бегает, довольством сияет. К Борисычу заглянул – тот палаты подземные показал, Потапыч от почтения аж присвистнул. У Ежихи посидел-погостил, чаю травяного откушал. Показывала она кладовые свои лекарские – травы всякие, коренья целебные, настойки волшебные, мази чудодейственные. – Зима тяжкая нынче будет, – молвила Ежиха, чай в чашки разливая. – Чую нутром. Много хворых народится. – Отчего так разумеешь? – Вестница в исходе августа явилась. Когда так рано – зима долгая да морозная предстоит, и готовиться надобно основательно. Потапыч согласно кивнул. Он тоже нутром чуял. Потому и обходил всех, примечал, кому подмога понадобится. Семья бобров молодая у реки – запасов маловато, помочь надо. Дятел старый – один-одинёшенек живёт, трудно ему. Зайчата неопытные – могут чего важного не упомнить. Составлял Потапыч в голове список длинный. Кому что доставить, кому помочь, кого мудрости научить. Лес на взаимопомощи держится, на добрососедстве. Один в поле не воин – только сообща, только миром, только всем скопом. Вечера в сентябре дивные выдавались, красоты неописуемой. Солнце хоть и рано за лес садилось, да небо в краски волшебные расписывало – оранжевые, розовые, пурпурные, фиолетовые. Воздух быстро стыл, прозрачным-звонким становился. Запахи усиливались многократно – смола, хвоя, яблоки, цветы поздние в аромат единый сплетались, который одним словом назвать можно было – «осень». Звери же, работу свою дневную завершив, на поляне у Трёх Сосен собирались. Не каждый вечер, а частенько. Посидеть-побеседовать, новостями обменяться, душу отвести. Кудряшка хвасталась, сколько грибов насушила – все ветки заняты, скоро новые искать придётся! Борисыч кладовой новой гордился – показывал на лапах, какая просторная вышла. Пискунья сетовала, что спина ноет от орехов таскания, а лапки до мозолей стёрлись. Кося признавался, что половину дел запамятовал, и все смеялись-потешались – потому что Коська он и есть Коська, из года в год одна песня. Потапыч мёд приносил в кувшине большом. В кружки деревянные всем разливал. Мёд густой был, тёмный, как янтарь. И звери его пили медленно, смакуя каждую каплю, глаза от наслаждения закрывая. – Год добрый выдался, – молвил Борисыч. – Урожайный. – Добрый да щедрый, – соглашались остальные. – Зима, однако, трудная грядёт, – добавляла Ежиха. – Но мы готовы. – Готовы, – кивали все разом. Сидели так до темноты кромешной, пока звёзды яркие не зажигались на небосводе. Потом расходились по домам – сытые-довольные, уставшие-измученные, но душой спокойные. Завтра день новый настанет, работа новая объявится, заботы новые навалятся. Но сегодня можно посидеть всем миром, душу отвести, почувствовать, что ты не один-одинёшенек, что рядом есть те, кто в беде выручит, в горе поддержит, добрым словом утешит. Так и тёк сентябрь неспешно, золотой да щедрый, с красотою неписанной. Листья на деревьях постепенно убранство меняли – с зелёного на жёлтое, с жёлтого на оранжевое, с оранжевого на красное да багряное. Лес на пламя небывалое стал похож – горел-полыхал, переливами играл, под солнцем златым сверкал. Запахи множились, день ото дня богаче становились. Яблоки под деревьями, листва преющая, земля сырая после дождей обильных, дым от костров далёких, грибы в чащах дремучих, смола на соснах вековых, цветы последние на полянах светлых – всё это переплеталось, создавая симфонию ароматов дивную. Каждый день по-своему благоухал. Каждый час воздух менялся, обновлялся. Жил лес в работе великой да красоте несказанной. Звери припасы таскали-складывали, сушили-вялили, солили-квасили, прятали-берегли. Деревья плоды да листья щедро роняли. Птицы в стаи собирались, к отлёту дальнему готовились. Пчёлы ульи воском крепким запечатывали. Медведь толстел, к спячке долгой готовился. Всё своим чередом шло, своим порядком, как заведено от века, как идёт из года в год, из столетия в столетие. А по ночам тёмным, когда все обитатели лесные засыпали, лес тишиной особенной наполнялся, тишиной дремучей да колдовской. Листья под ветром лёгким шелестели песню убаюкивающую, а в речке вода журчала тихонько. Звёзды над верхушками деревьев горели – холодные, далёкие, вечные, словно алмазы на бархате чёрном. И казалось, что так всегда будет, что так всегда было. Что лес вечен, что времена года в хороводе бесконечном кружатся, что после осени зима белоснежная придёт, после зимы весна-красна, после весны лето жаркое. И снова осень златая. И снова Сентябрь-кормилец, щедрый да прекрасный. Работай не ленись, запасай не скупись, соседу помоги от души – и зима не страшна будет. Так в Заповедном лесу с давних пор ведётся, так заведено от века к веку, так и впредь вестись будет, доколе лес стоит да Солнце над ним всходит.