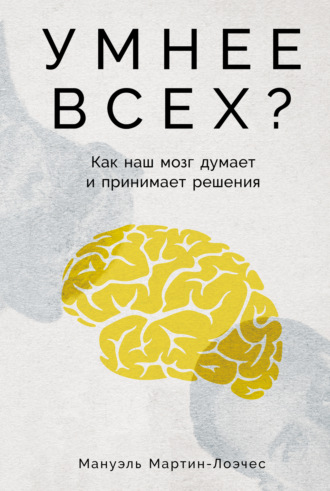
Полная версия
Умнее всех? Как наш мозг думает и принимает решения
Развитие производственных навыков у неандертальцев и Homo sapiens поначалу было параллельным, но вскоре у нашего вида произошел расцвет – появились инструменты разных типов, которые изготавливались из все более широкого спектра материалов (таких как кости или рога животных); все это привело к постепенному увеличению дистанции между нами и неандертальцами. Правда, стоит сказать, что еще более очевидным этот самый расцвет Homo sapiens стал, когда неандертальцы прекратили свое существование. Если смотреть в перспективе и отталкиваться от изучения ископаемых инструментов, кажется очевидным: интеллект, который характеризует нас как вид, развивался шаг за шагом на протяжении сотен тысяч лет. Ближе к концу этого пути Homo sapiens и неандерталец были похожи друг на друга, но в итоге мы все-таки превзошли последнего. Но за счет чего? Стало ли это результатом отличных когнитивных способностей или накопления культуры и знаний? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно взглянуть на то, как устроен головной мозг других видов, ведь когнитивные и интеллектуальные способности во многом зависят от его формы и размера.
Головной мозг состоит из органической материи, которая разрушается после смерти, так что при изучении окаменелых останков удается найти лишь отпечатки мозга на внутренней поверхности черепа. Но сами по себе кости черепа дают множество подсказок относительно когнитивных способностей вида, особенно если сравнивать черепа существ, относящихся к одной линии эволюции (одному роду или биологической группе). Начнем с того, что по черепу ясно, насколько велик был мозг; мы можем рассчитать его объем. Имеется множество доказательств того, что чем больше объем мозга, тем более сложна когнитивная сфера вида и его интеллект. Некоторые авторы вообще считают, что по-настоящему важен лишь абсолютный объем мозга, без учета других факторов; многие другие, однако, настаивают, что важен скорее относительный объем, то есть размер мозга в пропорции к чему-то другому, обычно размеру тела. Если представить, что для контроля тела определенного размера нужен мозг соответствующего размера, то при превышении мозгом этого теоретического объема он будет лучше справляться с задачами интеллектуального характера.

Генеалогическое древо человека
Я уже говорил, что интеллект нашего вида с течением времени развивался. Важно сказать, что и размер головного мозга в ходе нашей эволюции заметно изменился, причем как абсолютный, так и относительный, особенно со времен Homo habilis и Homo ergaster / erectus. Удивительно, но причина этого связана с использованием огня для приготовления еды. Не существует ни одного другого биологического вида, который бы подвергал пищу термической обработке. При этом выяснилось, что именно приготовление позволяет в полной мере использовать калории, содержащиеся в продуктах; это означает, что мы стали тратить на еду меньше времени. Если бы мы продолжали питаться сырыми продуктами, нам нужно было бы есть намного больше, чтобы обеспечить пищей такой крупный головной мозг, как наш.
Что насчет размера? Объем мозга шимпанзе составлял около 330 см3, а у австралопитеков уже 450 см3 – заметная разница. У ранних видов нашего рода (Homo habilis) размер мозга достиг почти 700 см3 – это много для приматов такого размера. С появлением Homo ergaster / erectus произошел новый скачок роста, и мы говорим уже о 1000 см3. Наконец, у Homo neanderthalensis и Homo sapiens средний объем мозга достиг 1400 см3; при этом у неандертальцев в абсолютном измерении он был чуть больше, чем у нас, однако относительные размеры сопоставимы, учитывая крупные тела неандертальцев.
Параллельно с изучением объема мозга ученые рассматривают и палеонтологический след в виде каменных орудий, которые сохранились с самых древних времен нашей истории. Вывод тот же: наш интеллект по мере эволюции становился все более развитым, и процесс этот был не резким, но постепенным: небольшие шаги, которые привели нас к сегодняшнему состоянию. Но мы пока только начали.
В определении интеллектуальных способностей важную роль играет не только размер головного мозга, но и его внутренняя организация. Я имею в виду количество нейронов в определенных отделах мозга, а также количество и качество связей между различными его частями. К сожалению, мы не знаем, какими были эти характеристики у видов, прекративших свое существование, ведь, как я уже говорил, ткани мозга в окаменелостях не сохраняются. Некоторые исследователи не считают этот источник информации важным; по их мнению, если мы изучаем одну и ту же эволюционную группу, то важнейший фактор, по которому можно судить об интеллектуальном потенциале вида, – объем мозга каждого конкретного вида. При этом подразумевается, что устройство головного мозга, то есть то, как он организован внутри, не меняется в рамках группы видов, а разница в размерах мозга отражает лишь разное количество нейронов, и это определяет различия в уровне интеллекта. Дизайн нашего мозга, таким образом, схож с таковым у приматов, а вот размер намного больше. У других животных, например слонов или китов, мозг огромный, но его устройство не такое, как у приматов, а значит, и интеллект отличается. Безусловно, внутри группы приматов у нас, людей, самый крупный мозг (с большим отрывом) и самый выдающийся ум.
Тем не менее для других авторов связи между нейронами и их крупные или мелкие скопления в определенных отделах мозга не менее, а то и более важны, чем его размер. И я с ними согласен. К примеру, известно, что в мозге человека есть определенная группа волокон, которая отсутствует у других приматов, за исключением разве что шимпанзе. Это так называемый нижний лобно-затылочный пучок, который соединяет затылочные доли (где преимущественно обрабатывается зрительная информация) через височные доли с лобными, причем в их префронтальной части – области мозга, во многом отвечающей за такие высшие когнитивные процессы, как внимание, контроль и планирование. У приматов, лишенных этого пучка, то есть у подавляющего большинства, имеются различные связи между упомянутыми отделами мозга, но единый путь соединения отсутствует. Кроме того, в мозге человека – по сравнению с любыми другими приматами – очень хорошо развит дугообразный пучок и другие пути, соединяющие теменные и лобные доли и играющие важную роль для генерации речи. Как выглядели эти и другие нервные тракты у Homo habilis, Homo erectus или у неандертальцев – вопрос, пока остающийся без ответа.
Авторы, считающие, что для понимания интеллектуальных способностей вида нужно учитывать не только размер, но и устройство мозга, также обращают внимание и на некоторые особенности его формы. В этом плане можно отметить, что у других видов нашей эволюционной линии мозг, независимо от размера, был скорее узким и вытянутым, тогда как у нас он имеет округлую, шаровидную форму, то есть увеличен в теменных и височных областях. Однако пока неясно, связано ли это изменение формы мозга с его функциональным или организационным развитием, или же оно стало лишь реакцией на перестройку формы черепа – ведь одновременно уменьшился объем его лицевого отдела.

Нижний лобно-затылочный пучок, соединяющий затылочные и височные доли с лобными

Основные доли и борозды головного мозга
Мы и они
Итак, мы поняли, что наш интеллект развивался постепенно. Весьма вероятно также, что неандертальцы были не менее умны, ведь их мозг по размеру был схож с нашим (даже больше нашего, но практически такой же, если смотреть в соотношении с телом), да и каменные орудия, которые они создавали, похожи на ранние человеческие. Это позволяет предположить, что и внутреннее устройство головного мозга неандертальцев было сходно с нашим. Оба вида были способны изготавливать инструменты для охоты на опасных и крупных – намного больше, чем они сами, – животных, поддерживать огонь для приготовления пищи, использовать шкуры животных для выживания в холодном климате и многое другое. Вероятно, это были два самых умных вида на планете Земля. Кроме того, у обоих видов были удивительные по строению кисти рук – хоть и схожие со свойственными другим приматам, они значительно развились за тысячи лет практики изготовления инструментов. Все это позволяло им эксплуатировать естественные ресурсы так интенсивно, как не получалось ни у одного животного другого вида. Именно здесь находится зерно, которое, взойдя, должно было обеспечить полное доминирование одного вида над миром. Или двух, тут нет окончательной ясности. По мнению большинства ученых, неандертальцы и sapiens были двумя разными видами: первый возник в Европе в результате эволюции Homo erectus или какого-то промежуточного вида, населившего эти места намного раньше, а второй появился в Африке (хотя и этот пункт небесспорен). Между этими двумя видами произошло смешение генетического кода, то есть появились общие потомки. Факт этот – наряду с заметным ментальным и интеллектуальным сходством – навел, в ходе долгих дебатов, ученых на предположение, что речь может идти об одном и том же виде.
Любопытно, что чем больше мы узнаём о неандертальцах, тем очевиднее, что они походили на нас – в плане поведения, а значит, и устройства разума. Считается, что они занимались рудиментарными практиками, имеющими отношение к искусству, использовали нательные украшения, в том числе довольно сложные в изготовлении. Да, во всех этих аспектах мы в итоге превзошли неандертальцев, но это было бы невозможно, если бы наша эволюция не опиралась на весьма развитую биологию мозга в качестве основы. При этом наш мозг эволюционировал параллельно с упадком неандертальцев, которых становилось все меньше, пока около 40 000 лет назад они не вымерли полностью.
Однако многие авторы считают, что между нашим разумом и всеми остальными разумами – или мозгами – животного мира, включая представителей рода Homo, и даже самих неандертальцев, существует непреодолимая граница, настоящий Рубикон, – несмотря на все многочисленные сходства. Они полагают, что относительно слабые различия между неандертальцами и sapiens на заре времен связаны с тем, что люди на тот момент еще не приобрели такую отличительную черту, как способность мыслить символами. Наш вид насчитывает от 200 000 до 300 000 лет, а характерное для нас символическое мышление возникло не более чем 100 000 или даже 50 000 лет назад. С появлением способности мыслить символами мы приобрели все, чем отличаемся как вид: язык, религию, искусство. Этот тип мышления качественно отличается от всего, что существовало ранее, и именно он представляет собой тот высокий барьер, который отделяет нас от всех прочих существ.
Любопытно, однако ж, что и у неандертальцев были формы поведения, которые, похоже, были так или иначе связаны с символическим мышлением, по крайней мере рудиментарным. Кроме того, имеются палеонтологические находки, относящиеся к периоду 45-тысячелетней давности, то есть когда sapiens еще не населяли Европу; эти находки свидетельствуют, что неандертальцы либо смогли преодолеть ту самую границу между видами, либо этой границы и вовсе не существовало. Второй вариант кажется мне более вероятным. Важно, что дать точное определение символическому мышлению не удается: имеющиеся формулировки двойственны и размыты, а единого мнения по ним пока нет. Для одних авторов «символическое» – это синоним «не утилитарного», для других это слово означает скорее нечто духовное, и, наконец, третьи связывают термин прежде всего с коммуникацией и речью.
Такие аспекты, как язык, искусство и религия, вырастают не из одного и того же механизма мышления, а из разных комбинаций, в которых сливаются многочисленные формы взаимодействия с реальностью. Таким образом, символическое мышление, что бы оно на самом деле ни подразумевало, само по себе не причина того, что люди могут верить в богов, рисовать на стенах или разговаривать. С когнитивной точки зрения несомненно одно: символическое мышление – это способность работать с символами, то есть некими изображениями или знаками, не связанными с реальной жизнью. Далее в этой книге я объясню, что наши знания, возможно, формируются иначе. Тем не менее можно объяснить, что такое символ, и по-другому. Символ – это некая репрезентация, отражающая реальное явление. Например, флаг – это символ страны. Слово «лодка» отражает то, что известно нам в качестве лодки. В этом смысле наш мозг действительно использует символы, в том числе языковые (то есть слова в качестве символов). Нет однозначной уверенности в том, что у неандертальцев не было языка, похожего на наш; более того, вполне вероятно, что он был. Есть и другие виды, которые используют символы или способны обучиться их употреблению. Однако в мышлении используются не совсем эти символы; мы думаем не звуками слов или изображениями флагов, а значениями этих символов. В общем, едва ли правильно считать символическое мышление нашей отличительной и уникальной чертой. Возможно, это еще одна ложная граница между нами и остальными видами – та воображаемая линия, которая на самом деле ничего не разделяет. Я еще вернусь к этой теме, а пока давайте поищем другие варианты ответа.
Мы остались одни
Кратко подытожим: в истории был момент, когда существовали (и даже сосуществовали) два вида, обладающие повышенным интеллектом: неандертальцы и Homo sapiens. Это были, вероятно, два самых умных и обладавших наивысшим потенциалом вида на планете Земля. Однако со временем один из них исчез. Причины исчезновения остаются тайной, и их пытаются объяснить самыми разными способами.
Сначала была предложена гипотеза о том, что наш вид победил в агрессивной борьбе за природные ресурсы. Если исходить из презумпции интеллектуального превосходства Homo sapiens (которое, как мы уже видели, не доказано, но и не исключается), мы могли оказаться более способными в физических столкновениях с неандертальцами. Но в таком случае сохранились бы какие-то следы подобных битв, которые, однако ж, пока не обнаружены. Поэтому гипотеза эта устарела и вышла из употребления.
Высказывалась и идея, согласно которой наш вид мог быть носителем инфекционных и паразитарных заболеваний, с которыми иммунная система неандертальцев не справлялась, и они вымерли по нашей вине, непреднамеренно с нашей стороны. Схожие феномены в истории уже отмечались: например, при завоевании американского континента испанцами местное население значительно уменьшилось в размере, хотя и не до грани исчезновения. Однако неандертальцы и люди сосуществовали на территории Европы на протяжении не менее 5000 лет; и похоже, это все же многовато, чтобы заподозрить нас в их уничтожении с помощью занесенных из других регионов патогенов.
Может быть, у неандертальцев отсутствовали какие-то имевшиеся у нас преимущества, помогающие использовать природные ресурсы? Речь может идти не о физическом противостоянии – не на жизнь, а на смерть – между двумя видами, а о лучших способностях одного вида добывать те или иные природные ресурсы, объем которых обычно ограничен. В силу этого более слабой группе оставалось бы все меньше разного рода ресурсов, и группа постепенно вымирала. Такого рода слабость или недостаток необязательно связаны с интеллектом, хотя и этого исключать нельзя. Не стоит забывать, что в истории были случаи, когда одни группы людей уничтожались другими, обладавшими преимуществом в плане технологий или организованности, но это уже продукт культуры и образования, не связанный с врожденными ограничениями головного мозга. Каменные технологии неандертальцев не были столь разнообразными и продвинутыми, как наши; кроме того, они жили менее крупными и более изолированными группами, что ограничивало возможности культурных обменов. Предполагается также, что неандертальцы обладали более низкой выносливостью при беге, а это сказывалось на результатах охоты, одного из основных источников питания в те времена (наряду со сбором фруктов и других растений). В сравнении с более худыми, легкими людьми неандертальцы были крупнее, а значит, их тела расходовали больше энергии.
Можно предположить, что причин было сразу несколько. Так или иначе, они исчезли, а мы остались. Или нет? Ведь имеются и признаки смешения двух видов. При изучении ископаемой ДНК стало ясно, что между неандертальцами и sapiens были отношения, в результате которых рождалось фертильное потомство. Это значит, что многие современные люди частично происходят от неандертальцев! Однако нельзя утверждать, что мы смешанный неандертальско-человеческий вид, происходящий из гармоничного сосуществования на обширной территории на протяжении тысяч лет. Фрагменты ДНК неандертальцев, которые находят у современного человека, крайне незначительны; они обнаруживаются только у людей неафриканского происхождения. Другими словами, у множества людей нет ни следа неандертальской генетики. Поэтому мы можем сделать вывод, что на планете выжил лишь наш вид, хотя у некоторых его представителей и можно найти следы другого вида, с которым мы сосуществовали и который более не присутствует. Если только мы не придем к заключению, что sapiens и неандертальцы вообще никогда не были двумя разными видами…
Самые важные периоды жизни
Размышляя о том, действительно ли мы умнее всех на планете, мы порой преувеличиваем роль генов, отвечающих за структуру и организацию мозга. Но ведь это не единственный важный фактор. Опыт, накопление культуры, передача информации, ее обсуждение и дебаты, дискуссии и коллективная выработка знаний – все это тоже существенно. И более того, играет важную роль.
Несомненно, то, как именно устроен мозг у конкретного вида, определяет границы, в которых может развиваться его интеллект. В группе приматов, к которым относимся мы, существует, как мы уже знаем, корреляция между интеллектуальным потенциалом и объемом головного мозга. За все время эволюции только человек достиг высочайшего технологического уровня, и при сравнении размера мозга людей и всех прочих присутствующих на планете видов все довольно очевидно. Но есть и еще кое-что. Невозможно использовать весь потенциал головного мозга, если лишить его доступа к опыту и информации – адекватным и достаточным в каждый момент времени. А уж если информация и опыт будут высокого качества, то мозг в состоянии достичь впечатляющих вершин.
Спор о происхождении наших интеллектуальных способностей продолжался не одно десятилетие. Ум – это продукт воздействия среды, то есть образования и опыта, полученных после рождения? Или же мы приобретаем его в ходе генетического наследования и умные дети рождаются у умных родителей? Это спор об интеллектуальных различиях между индивидуумами одного и того же (нашего) вида, но отчасти подразумевались и различия между видами нашей эволюционной линии; эти различия обнаруживаются в палеонтологической летописи. К счастью, на сегодня дискуссия считается практически завершенной. Она основывалась на крайне упрощенном подходе к проблеме взаимодействия генетики и среды, в рамках которого предполагалось, что определенная доля интеллекта определяется генами, а другая – образованием и опытом. Сначала утверждали, будто это соотношение составляет 80:20, потом говорили об обратном (20:80), а в дальнейшем и о равных долях (50:50). Но в действительности, как это часто бывает, все несколько сложнее.
Во-первых, со временем научным образом было доказано, что не существует отдельного гена интеллекта, который определял бы, насколько человек будет умен (при наличии соответствующего образования). За коэффициент интеллекта конкретного человека в большей или меньшей степени отвечают сотни генов. Каждый из них оказывает свое небольшое влияние на какой-то конкретный, специфичный процесс в головном мозге. Скажем, одни гены определяют качество тех или иных нейронных связей, другие – количество нейронов в разных отделах мозга, третьи – число связей между определенными нейронами и так далее. Таким образом, одни гены могут благоприятствовать развитию интеллекта своего носителя, а другие – уменьшать или нейтрализовать этот благоприятный эффект.
Во-вторых, важно понимать, что оценивать вклад генов не имеет смысла без учета влияния среды. И среда это далеко не только образование; она включает в себя множество разных факторов. К примеру, фундаментальное, а порой и определяющее значение для интеллекта конкретного человека имеет адекватное питание, особенно на этапе развития. Для построения сложной нейронной системы, каковой и является мозг, необходимы, кроме прочих веществ, белки и аминокислоты. Нейроны и связи между ними – это физические объекты, для построения которых требуется сырье; если этого сырья не хватает, оптимального результата не будет. Учитывая этот факт, можно понять, что на развитие мозга влияют и другие факторы, которые могут быть далеки от образования или опыта, но крайне важны; в качестве примеров можно назвать воздействие токсических веществ или загрязненного воздуха. К тому же мозг постоянно трансформируется, даже когда период его развития уже завершен (а у человека он может составить более 20 лет); это означает, что интеллектуальные способности могут варьировать под влиянием всех этих факторов на протяжении взрослой жизни.
То, насколько умен будет конкретный человек, во многом зависит от того, насколько вовремя он подвергнется воздействию тех или иных факторов среды. В период развития головного мозга он нуждается в определенном опыте и воздействии стимулов в конкретные моменты; если такого воздействия не произошло, окно возможностей закрывается, а последствия могут быть в той или иной мере необратимы. Если взять новорожденного котенка и на первые несколько недель жизни завязать ему глаза, то животное останется слепым навсегда. Если сделать то же самое со взрослой кошкой, она вновь будет отлично видеть, когда повязку снимут. Это пример того, что такое критически значимый период – жизненный этап, на котором тот или иной опыт имеет критическое значение. Логично, что в эти моменты фундаментальную роль играет и то самое сырье для строительства мозга, о котором мы уже упоминали, – питательные вещества. Именно поэтому неполноценное питание в детском возрасте – гораздо более серьезная проблема, чем недоедание у взрослых. Кроме того, на физическое формирование головного мозга влияют и разные заболевания, в том числе стресс, который может сыграть важную роль. Именно стресс опасен для мозга, ведь он, помимо прочего, сопровождается повышением уровня гормона кортизола; кортизол же способен буквально разрушать нейроны.
Другие периоды, связанные с приобретением определенного опыта, важны, но не критически, поэтому их называют сенситивными периодами; если в такой промежуток времени не будет приобретен нужный опыт, последствия возможны, но не такие заметные, как при нарушениях в критические периоды. В целом можно сказать, что критически значимые периоды наблюдаются в раннем детстве, а сенcитивные – позже. Развитие мозга – кумулятивный (накопительный) процесс; качество и результат созревания отдельных его областей зависят от того, как созревали и развивались другие зоны, которые уже преодолели критический или сенситивный период. Итак, интеллектуальные способности человека зависят от множества факторов, сложно переплетенных между собой. Процесс должен идти гармонично, а его элементы – превышать определенный минимум в плане качества; и чем значительнее мы сможем улучшить качество всех этих элементов, тем лучшего результата мы добьемся.
Сила знаний
Образование в современном человеческом обществе организовано таким образом, что человек получает его прежде всего во время наиболее важных критических и сенситивных периодов развития мозга нашего вида. Мозг, который в годы своего созревания обеспечен разного рода стимулами, информацией, опытом, предлагаемым системой образования, будет отличаться от мозга, который всего этого лишен, даже если речь идет не просто о представителях одного и того же вида, но и людях со схожей или идентичной генетикой. Опыт влияет на морфологию мозга и нейронные связи в нем. Знания и опыт дают мозгу большее количество нейронов и связей между ними; такой мозг более эффективен – другими словами, более умен.
Более того, похоже, у каждого следующего поколения, благодаря как раз образованию, уровень интеллекта повышается. Некоторое время назад психолог Джеймс Флинн заметил, что средний коэффициент интеллекта в популяции со временем увеличивается – примерно на три пункта за десять лет (вернее, сам по себе этот средний коэффициент относителен и принимается за сто, а вот то, как он подсчитывается, приходится регулярно корректировать). Это называется эффектом Флинна. В основе эффекта – тот факт, что число грамотных людей постоянно растет, а информация, которую каждое поколение получает в период обучения, меняется. За несколько последних десятилетий интеллект населения Земли стал выше, по крайней мере согласно данным традиционных тестов, которые позволяют измерить ментальные навыки, развивающиеся в процессе обучения. Другими словами, возникает повторяющийся цикл: с каждым разом все больше людей способны получить высокий результат теста и его средний результат повышается. Интересно, что в наиболее экономически развитых странах эффект Флинна достигает, похоже, в какой-то момент определенного потолка, а вот в развивающихся странах он очень заметен. Так или иначе, сомневаться не приходится: чем шире и качественнее образование, тем выше становится и интеллект человечества.

