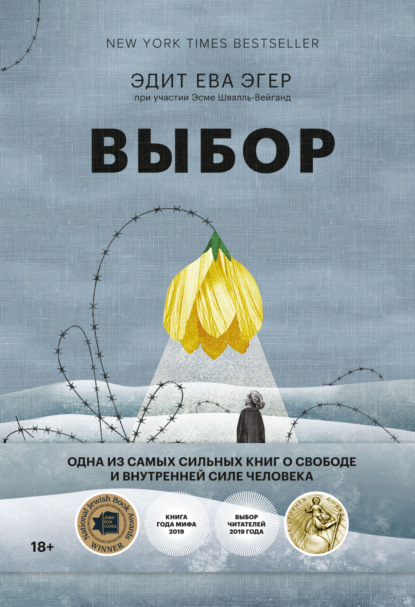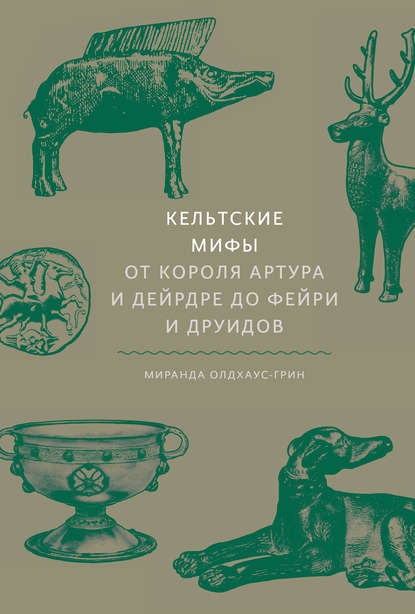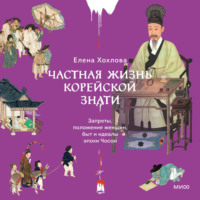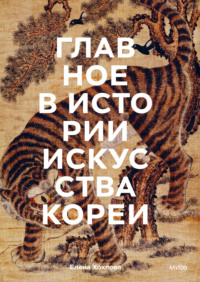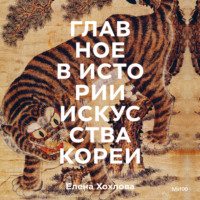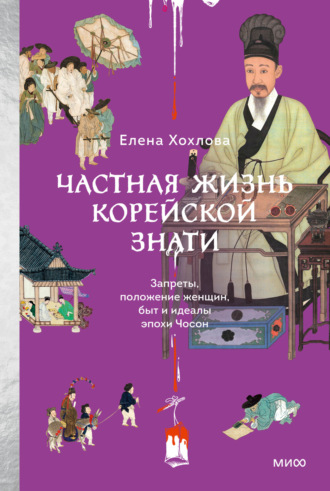
Полная версия
Частная жизнь корейской знати. Запреты, положение женщин, быт и идеалы эпохи Чосон
В Китае, откуда пришел обычай тольчаби, чтобы проверить характер ребенка, к правильным предметам добавляли и «недостойные», такие как игрушки, безделушки. Если ребенок выбирал «недостойный» предмет, это могло означать, что в будущем он будет подвержен соблазнам и не блеснет достоинством и умом. В Корее судьбу не искушали и раскладывали перед ребенком только «правильные» предметы, причем набором предметов пытались заранее сформировать предпочтения малыша. Ученый муж, чиновник Ли Мунгон (1494–1567), автор «Записок о воспитании ребенка» (1551–1566), в которых описаны рождение и детские годы его внука, отмечал, что лично отобрал для внука предметы, сулящие успешную карьеру чиновника и процветание (брусок туши, лук, рис, печать), и радовался, когда мальчик во время церемонии брал их один за другим по очереди[11].
Какой предмет Хон Исан выбрал во время церемонии тольчаби, неизвестно, но художник вложил ему в руки кисть и книгу как символ карьеры гражданского чиновника – наиболее предпочтительный вариант для представителя янбанского сословия.
Помимо предметов для тольчаби, на круглом столе можно увидеть миску с вареным рисом – символ чистого сознания и духа, а также тарелку со сложенными горкой рисовыми пирожками сонпхён () как пожелание достатка. На стол ставили и тарелки с плодами, содержащими большое количество семян, желая ребенку в будущем обзавестись множеством наследников, а также лапшой, своей длиной символизирующей долголетие.
Наряд мальчика воплощает надежды родителей и членов семьи на благополучие. Ребенок одет в специально подготовленную для празднования кофточку сэктонкори (), на рукавах которой вставки из цветных полосок сэктонмун (), символизирующих гармонию инь и ян (), и пять первоэлементов (дерево, огонь, земля, металл, вода). На талии ребенка завязан поясок тольтти с вышивкой. На таких поясках матери и бабушки вышивали иероглифы «жить», «счастье», «долголетие», «большое количество сыновей», а также оленей, черепах, журавлей, пионы, бамбук, гриб бессмертия, сосну и другие символы процветания и долгих лет жизни (рис. 7). К пояску привязаны два мешочка, куда насыпали зерно, клали волосы счастливых стариков старше восьмидесяти лет, снова желая ребенку достатка и долголетия[12]. На мешочках тоже вышивали благопожелательные символы.

Рис. 7. Тольтти, поясок для именинника. Начало XX в.
Государственный этнографический музей Республики Корея, Сеул (National Folk Museum of Korea
На голове ребенка надета шапочка кулле (), или тольмочжа (), завязанная на большой бант под подбородком. Такие шапочки шили из шелка, украшенного вышитыми пионами, лотосами, иероглифами «долголетие», бусинами и пр. Шапочки надевали на первый день рождения девочек и мальчиков, дети носили их до возраста трех-четырех лет[13].
Во дворе дома собрались женщины разных возрастов с детьми, чтобы посмотреть на церемонию тольчаби. У открытой калитки изображена возвращающаяся домой девушка-служанка с большим тазом на голове. По всей видимости, она разносила рисовые пирожки тток, которыми было принято угощать соседей в честь празднования первого дня рождения ребенка. В ответ соседи дарили деньги, рис, катушки ниток, желая долгой и счастливой жизни имениннику.
Помимо домочадцев и слуг, во дворе находятся собака, петух и курица с цыплятами. Курица и петух с большим количеством цыплят изображены как пожелание семейного счастья имениннику, рождения в дальнейшем большого количества наследников. Петух, кроме прочего, символизировал успех на службе, так как высокий хохолок птицы ассоциировался с головным убором высокопоставленных чиновников при китайском дворе. Изображение петуха также служило своего рода оберегом, защищающим дом от злых духов, поскольку люди верили, что своим криком рано поутру он распугивает нечисть, разгуливающую под покровом ночи.
Собака справа тоже изображена неслучайно. Собаки сторожили дом и символизировали защиту от злых духов по принципу омонимии: иероглиф «собака» омонимичен иероглифу «защищать». Иероглиф «защищать» также омонимичен иероглифу «дерево», поэтому изображения собаки под деревом приклеивали в доме для защиты от злых духов[14]. Спокойное животное добавляет умиротворенности семейному празднику. Вся сцена наполнена атмосферой радости и безмятежности.
Первый день рождения ребенка праздновался с разной степенью размаха в зависимости от возможностей семьи. При этом остальные дни рождения, кроме шестидесятилетия, не предполагали отдельных церемоний. Важность этого дня в жизни семьи связана с обязанностью продолжения рода и высокой младенческой смертностью. Женщина благородного происхождения производила на свет в среднем пять детей, но до взрослого возраста нередко доживал лишь один ребенок. В эпоху Чосон даже в богатых семьях и семьях правителей смертность в младенческом возрасте была высокой. Например, из четырнадцати детей вана Ёнчжо четырехлетнего возраста достигли только пятеро[15].
Высокая младенческая смертность формировала различные верования, связанные с надеждой оградить ребенка от болезней, помочь окрепнуть. В дом с новорожденным не пускали посторонних, пока ребенку не исполнится двадцать один день, чтобы избежать инфекций. До года ребенка показывали только самым близким родственникам, о здоровье малыша молили трех богинь Самсин. Когда младенцу исполнялось сто дней, готовили рисовые пирожки тток и угощали соседей. В цифре 100 нет особой символики, кроме того, что ребенок прожил целых сто дней, то есть много. Первый день рождения дарил надежду, что ребенок доживет до взрослого возраста, поэтому его отмечали всей семьей. В рождение ребенка вкладывалась не просто надежда, что род не прервется или ребенок прославит семью, – наследник был гарантом, что за духами умерших членов семьи будет присмотр. Люди верили, что духи имеют «обратную связь» с живущими и оказывают влияние на жизнь потомков, поэтому о духах родственников до четвертого колена нужно было заботиться[16]. В семьях привилегированного сословия несколько раз в месяц проводили чеса () – обряд почитания духов перед ритуальными табличками, а также несколько раз в год – церемонию на могилах[17]. В домах янбанов нередко возводили отдельный павильон садан () для хранения поминальных табличек, в которых, согласно верованиям, постоянно или временно присутствовала одна из составляющих духа предка. Главный садан страны – это храм предков Чонмё, где ваны почитали духов умерших правителей, их жен и выдающихся государственных деятелей.

Рис. 8. Кофточка сэктонкори. Начало XX в.
Государственный этнографический музей Республики Корея, Сеул (National Folk Museum of Korea)
До XVII века при отсутствии сына в семье чеса могли проводить и для дочери. Позднее ритуалы стали обязанностью старшего сына, и горе той семье, в которой его не было, поскольку корейцы верили, что в таком случае, как писал В. Л. Серошевский (1858–1945), побывавший в Корее в начале XX века, «душа покойника, лишенная поминок и молитв, мучается и блуждает беспокойно по земле, лишенная возможности успокоиться в “царстве теней”, где проживают счастливцы, имеющие поминателей, и где они кормятся приносимыми им постоянно жертвами»[18].
Корейцы верили, что счастливый предок, для которого нашли счастливую могилу и которому проводят ритуалы, гарантирует процветание роду. Путешественник Н. Г. Гарин-Михайловский (1852–1906) писал, что корейцы были «заняты выше головы своими покойниками»[19] и «добрая часть Кореи была в могилах»[20], так как корейцы истово верили, что «удачным выбором могилы могли найти, как клад, свое счастье, и тогда не надо ни образования, ни ума, ни способностей»[21]. Но если за духом не ухаживают, он начинает вредить живущим.
В особенности о рождении наследника пеклись старшие члены семьи, которые уже чувствовали опасность остаться без поминателя в скором будущем. В этом отношении интересны мольбы уже упомянутого Ли Мунгона: он писал в дневнике, как надеялся, что родится внук и проживет хотя бы до возраста вступления в брак, ведь это даст надежду на продолжение рода и на то, что его дух и духи предков будут под присмотром[22].
Если после нескольких лет брака в семье не рождался сын, женщины и старшие члены семьи молили о помощи Будду и бодхисатв в буддийских храмах, Нефритового императора – верховное божество даосского пантеона, духов гор, богинь Самсин, обращались к шаманам и даже в конфуцианские школы-храмы совоны (), где были павильоны для почитания выдающихся конфуцианских деятелей.
Семьи без наследников горевали, что некому будет о них заботиться после смерти и не обрести им вечного покоя. По этой причине распространилась практика усыновления в семьях, и обычно усыновляли сыновей родственников. Случалось, что семья была вынуждена отдать своего единственного сына старшему бездетному наследнику рода по решению его главы. Сохранилась история о Юн Понгу (1683–1767) и его супруге. Долгое время у них не было детей, но, когда жене было уже почти сорок, родился мальчик, в котором мать «души не чаяла». Однако сына не было и у старшего брата Юн Понгу, поэтому супругов вынудили послушаться главу рода и отдать своего сына в дом старшего брата. Родная мать, оставшись без малыша, скрывала свои чувства, чтобы не стать объектом критики главы семьи, но в итоге заболела и умерла[23].
В первый день рождения было принято дарить ребенку земли и крепостных[24], что снова говорит о важности этого события для семьи. А отец или дед, стараясь повлиять на будущие пристрастия ребенка, дарили собственноручно переписанные книги конфуцианского канона.
Традиции первого дня рождения сохраняются и по сей день, кульминацией праздника остается церемония тольчаби. Набор предлагаемых ребенку на выбор предметов меняется в зависимости от семьи. Так, родители, бабушки и дедушки могут предложить ребенку стетоскоп в надежде, что он станет врачом, микрофон, чтобы стал звездой K-pop, компьютерную мышь, судейский молоток или футбольный мяч.
Женитьба
На второй створке ширмы представлен следующий важный этап в жизни героя – женитьба. Художник изобразил не саму свадебную церемонию, а праздничную процессию жениха в дом невесты: молодой Хон Исан – жених едет верхом на лошади по улице города в компании родственников и помощников (рис. 9, слева).
.

Рис. 9. Ким Хондо. Жизнь Модан Хон Исана (вторая справа створка). 1781 г.
Слева полностью, справа фрагмент (прорисовка). National Museum of Korea
Согласно книге ритуалов «Ли цзи» («Записки о правилах благопристойности») – одному из главных произведений канонической литературы конфуцианства, «брак – это союз двух семей, заключающийся с целью почитания предков и продолжения рода»[25]. Кроме того, с точки зрения конфуцианского государства брак являлся основой поддержания порядка в обществе. Он не был вопросом выбора, но считался обязательным этапом в жизни человека. Правитель мог наказать семью, в которой оставалась незамужняя дочь старше тридцати лет, поскольку считалось, что неосуществленные мечты девушки о женихе распространяли неблагоприятную энергетику, способную нарушить гармонию в государстве[26]. Это вынуждало семьи прятать незамужних женщин старше тридцати от чужих глаз, что, в принципе, было возможно, ведь посторонним вход на женскую половину дома был запрещен.
Не вступившие в брак мужчины и женщины воспринимались как нежелательные члены общества, не считались взрослыми. Неженатый мужчина должен был оказывать знаки почтения женатым, даже если они младше по возрасту. Холостяков было легко распознать по прическе, так как они не имели права завязывать волосы на макушке в пучок сантху () и должны были ходить с косой (см. по ссылке в примечаниях альбомный лист Ким Чунгына (годы жизни неизвестны) «Мужчина, завязывающий волосы в пучок сантху»[27]). Незамужним девушкам также запрещалось собирать волосы в пучок, а полагалось носить косу. После смерти неженатым, как не исполнившим сыновний долг перед родителями, не полагались могильный холм, поминальные ритуалы чеса, и их имена не записывали в генеалогическую книгу[28].
Средний возраст вступления в брак в эпоху Чосон для янбанов составлял 16–20 лет. При этом допустимым брачным возрастом для мальчиков считались 15 лет, а для девочек – 14. Если один из родителей был болен или старше 50 лет, допускалось заключение брака детей с 12 лет.
Хон Исан женился в 21 год, то есть довольно поздно по меркам того времени. Заключить брак быстрее не позволяло тяжелое финансовое положение семьи. Подготовка к свадебной церемонии требовала серьезных трат, недостаток средств мог стать существенным препятствием. Расходы на проведение свадебной церемонии детей бедных аристократов или детей, оставшихся без родителей, иногда брал на себя правитель.
Родители могли обсудить женитьбу детей задолго до их вступления в брачный возраст – сохранилось множество подобных историй. Так, Ли Кванчжик (), однажды проходя мимо дома своего друга Ким Манги (1633–1687), старшего брата известного писателя Ким Манчжуна (1637–1692), услышал плач ребенка. Узнав, что у Ким Манги родился сын, он предложил в невесты свою месячную дочь, и друзья решили поженить отпрысков, когда те подрастут. Ли Кванчжик скончался за три года до свадебной церемонии, но брак все равно состоялся, когда детям было по семнадцать[29].
Активную роль в поиске пары играли матери и бабушки. Чиновник и интеллектуал Хон Сокчу (1774–1842) оставил воспоминания о том, как ему выбрали супругу:
Моя бабушка однажды поехала на свадьбу в дом своей сестры, где увидела родственницу шести лет, будущую госпожу Ли. Девочка ей очень понравилась умом и похвальным поведением, бабушка посадила ее к себе на колени, задавала вопросы; девочка, отвечая, не сделала ни одной ошибки. Бабушка запомнила смышленого ребенка и через шесть лет отправила предложение о свадьбе. Семья госпожи Ли хотя и была королевских кровей, но отец семейства не смог сдать экзамен на получение должности, поэтому жили они бедно. И ответ на предложение заключить брак был такой: «Наш дом – это дом бедного сонби. Как можно нам поженить детей?» Но мой дед, Хон Наксон, поехал в дом госпожи Ли и сердечно предложил приехать к нам. Отец госпожи Ли, Ли Ёнхи, не смог отказаться, приехал к нам, где увидел, как я читаю. Вернувшись к себе, Ли Ёнхи сказал жене: «Жених хороший, думать здесь не о чем». Было нам тогда с моей супругой, госпожой Ли, по двенадцать лет[30].
Часто янбане прибегали к помощи свах. Сохранились примеры требований, которые предъявляли семьи: например, жених должен был быть «силен в написании текстов», а невеста «добродетельна и мудра». Браки заключались среди представителей одного сословия. Если янбан женился на простолюдинке или незаконнорожденной дочери другого янбана, он лишался янбанского статуса и права сдавать экзамен на получение должности. При этом наложниц янбане могли брать из разных сословий.
Согласно конфуцианству, брак должен был заключаться с четким соблюдением ритуала. Брачной церемонии предшествовал ряд подготовительных этапов, которые подробно описаны в отечественной науке, поэтому кратко представим лишь основные из них и подробно остановимся на сцене, изображенной на ширме.
Сначала семья жениха сообщала семье невесты о желании заключить брак. Если согласие было получено, родители жениха, узнав имя невесты, просили гадалку проверить, удачным ли будет союз. Затем в дом невесты передавалось мнение гадалки и отправлялось письмо-гарант о намерении заключить брак. После родители жениха запрашивали у гадалки удачную дату для заключения брака и уточняли у родителей невесты, подходит ли им выбранная дата. Сама свадебная церемония проходила в доме невесты, где готовили все необходимое. Из дома жениха накануне отправляли короб с подарками.
Жених приезжал в дом невесты в сопровождении помощников, слуг и родственников, как изображено на ширме (рис. 9, справа). Наряжался он в костюм чиновника. Хон Исан одет в халат таллён бордового цвета с поясом, на голове шапка само. Бордовый таллён полагалось носить только чиновникам выше третьего ранга. На момент заключения брака Хон Исан еще не сдавал экзамен на получение должности и на службе не состоял. Но поскольку с точки зрения государства брак считался особо важным событием, в день свадьбы жениху, независимо от социального статуса, разрешалось облачиться в наряд высокопоставленного чиновника, а невесте – в одеяния супруги чиновника первого ранга (с XVIII века – даже принцессы). Свадебные наряды шили в доме невесты, семья жениха заранее сообщала размеры и отправляла отрезы ткани.
Молодому человеку, ранее носившему косу, в день свадьбы впервые завязывали волосы в пучок. Это означало, что он больше не ребенок, а взрослый мужчина. Волосы фиксировали на голове повязкой мангон (), а поверх надевался головной убор.
Хон Исан едет в дом невесты верхом на белом коне, что добавляет исключительности происходящему. В обычной жизни янбане перемещались преимущественно на ослах, а лошади считались расточительством. Настоящему конфуцианцу, как человеку, стремящемуся к нравственному самосовершенствованию, а не накоплению материальных благ, подобало ездить на осле. Однако свадебный день был исключением. Скакуна часто брали напрокат, ведь далеко не все янбане могли позволить себе содержать коня, тем более белого. Существовало поверье, что если конь жениха у дома невесты громко заржет, то первенцем в молодой семье будет мальчик.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Notes
1
Янбане – феодально-чиновное сословие, по своему социальному положению близкое к служилому дворянству, помещикам-феодалам. Поскольку структуру чосонского общества определяло основное трудовое занятие: благородное (земледельческий труд) или неблагородное (неземледельческий труд), – янбане с точки зрения конфуцианства занимались благородным трудом, организуя жизнь и труд народа на земле, а также защищая его от врагов и внешних и внутренних опасностей. Прим. науч. ред.
2
К чунинам относились те, кто с точки зрения конфуцианства занимался полублагородным делом (медики, переводчики, художники и пр.), помогая чиновничеству организовывать жизнь крестьянства. Прим. науч. ред.
3
Подробнее см.: Хохлова Е. Главное в истории искусства Кореи. М.: МИФ, 2023. С. 179.
4
Толстокулаков И. А. Очерк истории корейской культуры. Владивосток, 2002. С. 90.
5
Конфуций. Записки и суждения. М.: Эксмо, 2018.
6
Хо Кёнчжин. Жизнь Хон Исана сквозь призму живописи // Сборник трудов конференции «Учитель Модан Хон Исан». Сеул, 2014. С. 40.
7
Со Юнчжон. Тенденции написания ширм пхёнсэндо и изменения стиля // Хангук мунхваюсан. 2021. № 12. С. 202.
8
Чхве Сонхи. Ширмы пхёнсэндо XIX века // Хангукмисульса кёюкхакхве. 2002. № 16. С. 103.
9
Го Цзы-и // Синология. Ру. URL: https://www.synologia.ru/a/%D0%93%D0%BE_%D0%A6%D0%B7%D1%8B-%D0%B8 (дата обращения: 03.05.2024).
10
Реконструированная цифровая версия ширмы представлена на сайте Национального музея Республики Корея: https://www.museum.go.kr/life/web-ko/index.html.
11
Хо Инук. Жизнь янбанов в старых картинах. Сеул: Тольпэге, 2010. С. 33.
12
Кан Сунчже, Ким Мичжан, Ким Чонхо и др. Словарь корейской одежды. Сеул: Минсоквон, 2015. С. 431.
13
Традиционная одежда корейских детей. Сеул: Издательство Университета Тангук, 2000. С. 101.
14
Хохлова Е. Искусство Кореи. М.: АСТ, 2024. С. 80.
15
Сколько жили люди в эпоху Чосон? // Ёнхап ньюс. 26.12.2013. URL: https://www.yna.co.kr/view/AKR20131225071500017 (дата обращения: 17.04.2024).
16
Курбанов С. О. Конфуцианский классический «Канон сыновней почтительности» в корейской трактовке. СПб., 2007. С. 28.
17
Курбанов С. О. Конфуцианский классический «Канон сыновней почтительности» в корейской трактовке. СПб., 2007. С. 28.
18
Серошевский В. Л. В стране утреннего спокойствия. Путешествие по Корее в 1903 году. СПб., 1905. С. 99–103.
19
Гарин-Михайловский Н. Г. По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову. М., 1958. С. 88.
20
Гарин-Михайловский Н. Г. По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову. М., 1958. С. 104.
21
Гарин-Михайловский Н. Г. По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову. М., 1958. С. 156.
22
Быт Кореи эпохи Чосон. Ч. 2. Сеул: Ёксапипхёнса, 2011. С. 29.
23
Ким Миран. Жизнь и обычаи женщин из янбанских семей в эпоху Чосон. Сеул, 2016. С. 79.
24
Спросим у старых текстов, как жили люди в эпоху Чосон. Сеул, 2009. С. 24.
25
Кукса пхёнчхан вивонхве. Традиции заключения брака и вступления в романтические отношения. Сеул, 2016. С. 102.
26
Кукса пхёнчхан вивонхве. Традиции заключения брака и вступления в романтические отношения. Сеул, 2016. С. 113.
27
Корейский христианский музей в Университете Сунсиль, Сеул. URL: https://www.museum.go.kr/MUSEUM/contents/M0502000000.do?schM=view&searchId=search&relicId=36560535 (дата обращения: 08.08.2025).
28
Чон Чинён. Изменения института брака. Сеул, 2015. С. 19–20.
29
Ким Миран. Указ. соч. С. 45.
30
Ким Миран. Указ. соч. С. 50.