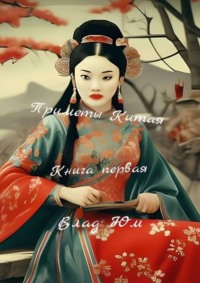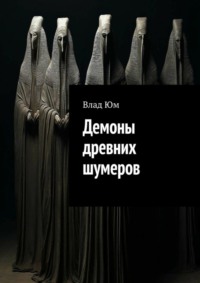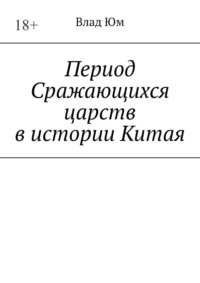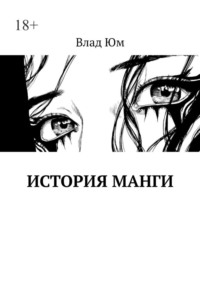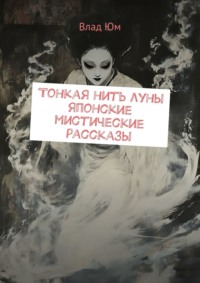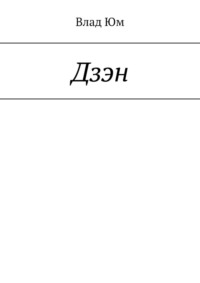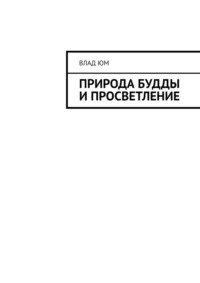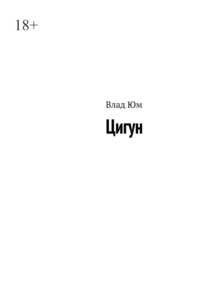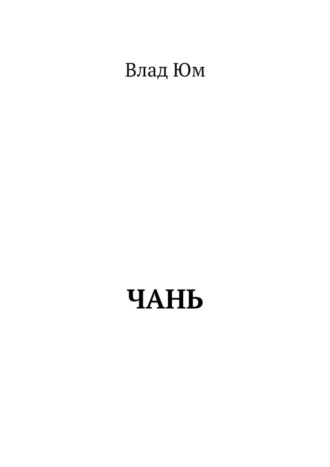
Полная версия
Чань

Чань
Влад Юм
© Влад Юм, 2025
ISBN 978-5-0068-1710-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Чань – буддизм
Чань – это школа буддизма махаяны, название которой происходит от санскритского слова дхьяна, что переводится как «медитация» или «состояние медитации». Эта школа начала формироваться в Китае с VI века нашей эры и приобрела особую популярность в период династий Тан и Сун. Иероглиф, обозначающий Будду в контексте Чань, является основой для дзен-буддизма, который получил свое японское название от того же иероглифа. Буддизм Чань распространился из Китая в различные страны Азии: на юг – во Вьетнам, где он стал известен как Тхиен, на север – в Корею, где его назвали Сон, и, наконец, в XIII веке, на восток – в Японию, где он принял форму дзен.
Периодизация
История Чань в Китае представляет собой сложный и многогранный процесс, который можно условно разделить на несколько ключевых периодов. Дзэн, который мы знаем сегодня, является результатом длительного исторического развития, в ходе которого происходили значительные изменения, а также влияли различные случайные факторы. Каждый из этих периодов характеризовался уникальными особенностями и типами дзэн, некоторые из которых оставались на вершине влияния на протяжении долгого времени, в то время как другие постепенно утратили свою значимость и исчезли. Исследователь Энди Фергюсон выделяет три основных периода в развитии Чань, начиная с V века и заканчивая XIII веком. Первый из них, который он называет Легендарным периодом, охватывает время с Бодхидхармы, который жил в конце V века, до восстания Ань Лушаня, произошедшего около 765 года н. э., в середине династии Тан. Об этом периоде сохранилось крайне мало письменных свидетельств, что делает его изучение достаточно сложным. В это время происходило становление Шести патриархов, среди которых особенно выделяются Бодхидхарма и Хуэйнэн. Также в этот период возникла легенда о «расколе» между Северной и Южной школами чань, что добавляет дополнительный слой сложности к пониманию ранних этапов развития этой философии. Следующий этап, известный как Классический период, охватывает время с конца восстания Ань Лушаня, примерно с 765 года н. э., до начала династии Сун, которая началась около 950 года н. э. Это время ознаменовалось появлением великих мастеров чань-буддизма, таких как Мацзу Даои и Линцзи Исюань. В этот период также началось создание жанра ю-лю, который представляет собой записи высказываний и учений этих выдающихся мастеров. Эти тексты стали важной частью наследия чань, сохраняя мудрость и идеи великих учителей для будущих поколений. Третий период, который можно назвать Литературным, длился примерно с 950 по 1250 год и совпадает с эпохой правления династии Сун (960—1279). В это время были созданы сборники гунъань – собрания высказываний и деяний знаменитых мастеров, дополненные поэзией и комментариями. Эти сборники отражают влияние литераторов на развитие чань-буддизма, поскольку многие из них были не только практикующими, но и талантливыми писателями. В этот период предшествующий этап, Классический, стал идеализироваться как «золотой век» чань-буддизма, и появилась литература, в которой описывались непосредственность и глубокая мудрость знаменитых мастеров, что способствовало распространению их учений и привлекло внимание широкой аудитории.
Джон Р. МакРэй, несмотря на свои сомнения относительно целесообразности деления истории чань-буддизма на различные этапы или периоды, все же выделяет четыре ключевых периода в развитии этого направления буддизма. Первый из них – это Прото-чань, который охватывает примерно 500—600 годы нашей эры, в эпоху Южных и Северных династий (420—589 гг.) и династии Суй (589—618 гг. н. э.). В этот период чань-буддизм начинает формироваться в нескольких регионах северного Китая. Основой его практики является дхьяна, медитативная практика, которая была связана с такими выдающимися личностями, как Бодхидхарма и его ученик Хуэйкэ. Важнейшим текстом этого этапа считается «Два входа и четыре практики», который традиционно приписывается Бодхидхарме. Следующий период, который МакРэй выделяет, – это Ранний Чань, который охватывает время с 600 до 900 года, когда династия Тан (618—907 гг. н. э.) была на пике своего расцвета. В этот период чань-буддизм начинает обретать более четкие контуры и формы. Среди наиболее значимых фигур этого времени выделяются пятый патриарх Даман Хонгрен, живший в VII веке, его наследник Юцюань Шэньсю, шестой патриарх Хуэйнэн, который стал известен благодаря своей роли в «Сутре Платформы», а также Шэньхуэй, который способствовал возвышению Хуэйнэна до статуса шестого патриарха. В этот период выделяются три главные фракции: Северная школа, Южная школа и школа Оксхед, каждая из которых привносила свои особенности и подходы в практику чань. Третий этап, который МакРэй называет Средним периодом Чань, охватывает время с 750 до 1000 года, включая события восстания Ань Лушаня (755—763) и переходный период, известный как Период Пяти династий и десяти царств (907—960/979). В это время происходит формирование известного Чань иконоборческих мастеров дзэн, среди которых можно выделить таких значимых учителей, как Мацзу Даои, Шитоу Сицянь, Линцзи Исюань и Сюэфэн Ицунь. Важными фракциями этого периода становятся школа Хунчжоу и фракция Хубэй. Одним из значимых текстов этого времени является «Антология Патриаршего зала», составленная в 952 году, которая содержит множество «историй о встречах» и каноническую генеалогию школы чань. Последний этап, который выделяет МакРэй, – это Династия Сун Чань, охватывающая период примерно с 950 до 1300 года. В этот период чань-буддизм достигает своей окончательной формы, в том числе представления о «золотом веке» чань, который пришелся на времена династии Тан, а также активное использование коанов для индивидуального изучения и медитации. Среди выдающихся фигур этого времени можно отметить Дахуэя Цзунгао, который ввел практику Хуа Тоу, и Хунчжи Чжэнцзюэ, который акцентировал внимание на Безмолвном озарении. Главными течениями в этот период становятся школа Линьцзи и школа Цаодун. В это время также собираются классические сборники коанов, такие как «Голубая скала», которые отражают влияние «литераторов» на развитие чань-буддизма. Важным событием является и то, что в этот период чань-буддизм начинает распространяться за пределами Китая, попадая в Японию, где он оказывает значительное влияние на развитие японской культуры и философии.
Распространение буддизма в Китае (ок. 200—500 гг.
Когда буддизм появился в Китае, он был приспособлен к местной культуре и философским представлениям. Существуют различные мнения о том, как другие философские школы повлияли на становление чань-буддизма, и эти взгляды часто основываются на теоретических предположениях, а не на документальных свидетельствах или исторических фактах. Многие исследователи считают, что чань-буддизм возник благодаря взаимодействию между махаяной буддизмом и даосизмом. Буддийская медитация имеет глубокие корни в Китае и практиковалась задолго до того, как Чань, известный как китайский буддизм, стал популярным. Одними из первых представителей, способствовавших распространению медитации, были такие личности, как Ань Шигао, который жил приблизительно в период с 148 по 180 год нашей эры. Он основал школу, которая занималась переводом различных Дхьяна-сутр, известных также как Чань-цзин, что в переводе означает «трактаты о медитации». Эти тексты оказали значительное влияние на ранние медитативные практики и учения, в основном опираясь на философию и медитацию кашмирской школы Сарвастивада, существовавшей примерно с первого по четвертый века нашей эры. В Дхьяна-сутрах выделяются пять основных типов медитации, которые служат основой для практикующих. Первый из них – это анапанасати, что переводится как осознанность дыхания. Эта практика помогает сосредоточиться на дыхании и осознать его ритм, что способствует достижению внутреннего спокойствия. Второй тип – медитация патикуламанасикара, которая включает в себя осознание нечистот тела, что позволяет практикующим осознать преходящую природу физической формы. Третий вид медитации – это майтри, или медитация любящей доброты, которая направлена на развитие сострадания и доброжелательности к себе и другим. Четвертым типом является созерцание двенадцати звеньев пратитьясамутпады, что связано с пониманием цепочки причин и следствий, ведущих к страданиям. И, наконец, пятый тип – это созерцание тридцати двух характеристик Будды, что помогает углубить понимание природы просветленного состояния. Среди других значимых переводчиков буддийских текстов, касающихся медитации, можно упомянуть Кумарадживу, который жил с 334 по 413 год нашей эры. Он перевел множество важных текстов, включая Сутру о сосредоточении в сидячей медитации. Также следует отметить Буддхабхадру, который также занимался переводами. Эти переводы, в основном осуществленные из индийских источников, касались руководств по медитации, принадлежащих к школе сарвастивада-йогачара. Они стали основой для формирования и развития техник медитации в китайском Чань, которое впоследствии оказало огромное влияние на буддизм в Китае и за его пределами.
Когда буддизм начал своё распространение в Китай, он столкнулся с влиянием таких философских и религиозных систем, как конфуцианство и даосизм, а также местных народных верований, которые существовали на этой территории. Исследователь Годдард ссылается на Д. Т. Судзуки, который утверждает, что чань, одна из школ буддизма, является «естественной эволюцией буддизма в условиях даосизма». В самом начале своего пути буддизм воспринимался как «варварская форма даосизма», что отражалось в первых переводах буддийских текстов, где для передачи буддийских учений использовалась терминология, заимствованная из даосизма. Этот процесс получил название ко-и, что означает «соответствие понятий». Судя по тому, как ханьцы воспринимали труды хинаяны и их ранние комментарии, можно сделать вывод, что буддизм усваивался через призму даосизма. Будда воспринимался как некий чужеземный бессмертный, достигший состояния, схожего с даосской концепцией «несмертия». Осознанность, которую практиковали буддисты в отношении дыхания, рассматривалась как продолжение даосских дыхательных практик, что подчеркивало взаимосвязь между этими двумя традициями. Первоначальными последователями буддизма в Китае были даосы, которые с большим интересом и уважением отнеслись к новым буддийским медитативным техникам. Они начали интегрировать эти техники с уже существующими даосскими практиками медитации, что привело к интересному синтезу двух систем. Ранние китайские буддисты, такие как Сэнчжао и Даошэн, находились под значительным влиянием ключевых даосских текстов, таких как «Дао дэ цзин» Лао-цзы и «Чжуан-цзы». Это влияние было столь сильным, что ранние последователи чаньской школы начали заимствовать даосские идеи, такие как концепция естественности. В частности, они стали отождествлять невыразимое Дао с природой Будды, что привело к тому, что вместо того, чтобы воспринимать буддизм как систему, основанную на абстрактных учениях сутр, они акцентировали внимание на том, что природу Будды можно найти в «повседневной» человеческой жизни. Это подчеркивало, что истинное понимание и просветление доступны каждому в их повседневном существовании, а не только в отдалённых и идеализированных концепциях.
Китайский буддизм, развивавшийся на протяжении веков, стал сложным сплавом различных философских и религиозных идей, включая элементы неодаосизма. В этом контексте следует отметить, что в буддизме Хуа-янь впервые были сформулированы такие ключевые концепты, как Ти-юн, что переводится как «Сущность и функция», а также Ли-ши, обозначающее «Ноумен и феномен» или «Принцип и практика». Эти идеи оказали значительное влияние на дальнейшее развитие чань-буддизма, который стал одной из самых влиятельных школ китайского буддизма. Однако в самом начале своего пути китайский буддизм столкнулся с серьезной конкуренцией со стороны двух других крупных философских систем – даосизма и конфуцианства. Даосизм, как и конфуцианство, был глубоко укоренён в китайской культуре и традициях, и буддизму, пришедшему извне, приходилось преодолевать множество предвзятостей. В условиях, когда буддизм воспринимался как «варварское» учение, некоторые китайские критики высказывали свои опасения по поводу распространения дхармы, буддийского учения. Это происходило в первые четыре века нашей эры, когда Китай испытывал политическую нестабильность и был уязвим для мятежей и внутренних конфликтов. С течением времени, по мере того как буддийская философия и практика начали проникать в китайское общество, традиционалисты, представляющие даосизм и конфуцианство, начали объединяться, чтобы противостоять этому иностранному влиянию. Их сопротивление не было вызвано какой-либо формой нетерпимости, которая, как известно, отвергается обеими традициями, а скорее исходило из чувства угрозы – они ощущали, что основы китайского мировоззрения подвергаются серьезному перевороту. Одной из ключевых точек соприкосновения между новым китайским буддизмом и традиционными философскими учениями стала доктрина двух истин. Для китайского мышления это означало признание существования реальности на двух уровнях: относительном и абсолютном. Это понимание не всегда совпадало с индийскими концепциями, в частности, с учением мадхьямаки, где две истины рассматривались как две эпистемологические истины – два различных взгляда на реальность. Даосы, в свою очередь, изначально неправильно интерпретировали концепцию шуньяты, полагая, что она схожа с даосским понятием небытия. Однако, основываясь на своем понимании Махаяна-сутры о Махапаринирване, китайские буддисты выдвинули предположение, что учение о природе будды, как оно изложено в этой сутре, представляет собой окончательное буддийское учение. Они пришли к выводу, что существует высшая истина, которая превосходит как шуньяту, так и две истины, что добавило новое измерение в их понимание буддизма и его места в китайском культурном контексте.
Подразделения по обучению
Когда буддизм начал своё распространение на территории Китая, он столкнулся с уже существующими традициями и направлениями обучения. В этот период можно выделить три основных подхода, которые стали основой для дальнейшего развития буддийской практики в стране. Первое направление заключалось в воспитании добродетели и следовании заповедям, что в санскрите обозначается термином «винайа». Это учение акцентировало внимание на моральных принципах и этических нормах, которые должны были соблюдать последователи буддизма, включая монахов и мирян. Второе направление сосредоточивалось на тренировке ума через медитацию, что в санскрите называется «дхьяна». Эта практика была направлена на достижение состояния ясности сознания и внутреннего покоя, позволяя практикующим избавиться от реактивных мыслей и эмоций. Третье направление касалось обучения записанным учениям, которое в санскрите обозначается как «дхарма». Это подразумевало изучение священных текстов и учений Будды, что позволяло глубже понять философские основы буддизма. В результате этого многогранного подхода к обучению возникли три типа учителей, каждый из которых специализировался на одной из этих практик. Мастера Винаи занимались обучением монахов и монахинь всем необходимым правилам дисциплины, обеспечивая соблюдение высоких стандартов поведения в монашеской общине. Мастера дхьяны, в свою очередь, фокусировались на практике медитации, обучая своих учеников техникам, которые способствовали углублению их внутреннего опыта. Наконец, мастера Дхармы занимались изучением и интерпретацией буддийских текстов, передавая знания о философии и учениях Будды. С течением времени в Китае стали появляться монастыри и центры практики, которые, как правило, специализировались на одной из этих дисциплин. Некоторые из них уделяли особое внимание Винае и обучению монахов, в то время как другие сосредотачивались на изучении определённых священных писаний или небольшой группы текстов. Мастера дхьяны, также известные как чань, часто выбирали уединённые места для своей практики, либо находились в монастырях, где обучали Винае, либо в центрах, посвящённых изучению Дхармы. Интересно, что более позднее название школы дзэн в Японии связано с этой трёхчастной структурой обучения. Однако, как отмечает исследователь МакРэй, следует учитывать, что чань-буддизм не был настолько изолирован от других направлений буддийской практики, как это может показаться на первый взгляд. Монастыри, возглавляемые чань-буддийскими монахами, представляли собой комплексные учреждения, которые поддерживали различные виды буддийской деятельности, помимо медитации в стиле чань. Это подчеркивает, что буддизм в Китае развивался в контексте более широкой сети взаимодействий и взаимовлияний. Важно отметить, что в отличие от независимых течений, таких как Сото и Риндзай, которые возникли в Японии в XVII веке и были в значительной степени результатом государственного вмешательства, в истории китайского буддизма не существовало институционально обособленной «школы» чань. Это свидетельствует о более интегрированном подходе к буддийской практике в Китае, где различные направления и учения сосуществовали и взаимодополняли друг друга, создавая богатую и разнообразную традицию, которая продолжает развиваться и по сей день.
Легендарный или проточанский (ок. 500—600 гг.)
Махакашьяпа и проповедь о цветах
В традиции чань-буддизма существует интересная история о том, как именно зародился этот уникальный подход к практике буддизма. Считается, что чань-буддизм возник в Индии, и одним из самых ранних источников, упоминающих его, является цветная проповедь, датируемая XIV веком. В этой истории рассказывается о том, как Гаутама Будда, великий учитель и основатель буддизма, собрал своих учеников для важной проповеди о Дхарме. Когда ученики собрались вокруг Будды, они ожидали услышать мудрые слова и наставления от своего мастера. Однако, вместо того чтобы начать говорить, Будда погрузился в молчание. Это молчание вызвало у некоторых учеников беспокойство. Они начали думать, что Будда, возможно, устал или испытывает недомогание, и поэтому не может говорить. Но Будда, как истинный учитель, имел свои собственные способы передачи знаний, которые выходили за рамки обычных слов. Внезапно Будда поднял цветок и стал крутить его в руках, его глаза светились особым светом. Это действие привлекло внимание всех учеников, и они начали пытаться понять, что именно означает этот жест. Однако, несмотря на все усилия, никто из них не смог разгадать смысл этого символического действия. Каждый из них пытался интерпретировать его по-своему, но все их попытки оказались безуспешными. Только один из учеников, по имени Махаяка, посмотрел на цветок и, почувствовав его красоту и значение, улыбнулся. В этот момент Будда обратил внимание на Махаяку и признал его проницательность. Он сказал: «Я обладаю истинным оком Дхармы, чудесным разумом Нирваны, истинной формой бесформенного, утончёнными вратами Дхармы, которые не зависят от слов или букв, а представляют собой особую передачу, выходящую за пределы священных писаний. Это я вверяю Махакашьяпе»
Первые шесть патриархов (ок. 500 – начало VIII века)
Традиционно считается, что чань-буддизм, который в настоящее время занимает важное место в китайской культуре и духовной практике, возник благодаря личности Бодхидхармы. Этот монах, говоривший на иранском языке и, по некоторым данным, родом из Центральной Азии, или, возможно, из Индии, стал основоположником этой уникальной школы буддизма. Интересно, что многие аспекты его жизни, а также биографии шести последующих патриархов, были созданы в период династии Тан. Это было сделано с целью придать более глубокую историческую основу и правдоподобность самой школе чань, которая в то время стремительно развивалась и становилась всё более популярной среди населения. К сожалению, сохранилось крайне мало исторических свидетельств о Бодхидхарме. Однако его житие было записано в начале VIII века, когда традиция чань уже начала активно набирать силу и привлекать внимание широкой аудитории. На тот момент в Китае была сформирована линия преемственности, которая насчитывала шесть основателей чань, каждый из которых внёс свой вклад в развитие этой философии. Многие исследователи полагают, что истинные корни чань-буддизма могут быть связаны с аскетами, которые искали уединения и духовного просветления в удалённых лесах и горах Китая. Одним из ключевых персонажей в этой истории является Хуэйкэ, которого называют «дхута», что переводится как крайний аскет, обучавший других. Хуэйкэ использовал Шрималу-сутру, одну из сутр, связанных с концепцией Татхагатагарбха, что также упоминается в различных рассказах о Бодхидхарме. Хуэйкэ считается вторым патриархом чань-буддизма, и именно он был назначен Бодхидхармой своим преемником. Его ученик, Сэнцань, которому приписывают создание «Синьсинь мин», считается третьим патриархом этой школы. К концу VIII века, под влиянием ученика Хуэйнэна по имени Шэньхуэй, был составлен традиционный список патриархов чань, который включает в себя: Бодхидхарму, жившего примерно с 440 по 528 год, Дацзу Хуэйкэ (487—593), Сэнкана (примерно 600 года), Дайи Даосиня (580—651), Дамана Хунжэня (601—674) и Хуэйнэна (638—713). В более поздних источниках эта родословная была значительно расширена, включая 28 индийских патриархов, что добавило глубины и исторической значимости к традиции. В «Песне просветления» (Zhngdo g), написанной Юнцзя Сюаньцзюэ, одним из главных учеников Хуэйнэна, утверждается, что Бодхидхарма был 28-м патриархом в линии, уходящей к Махакашьяпе, который был одним из первых учеников Будды Шакьямуни и считается первым патриархом чань-буддизма. Махакашьяпа стал первым, кто возглавил эту линию передачи учения, и после него последовали двадцать восемь патриархов на Западе. Затем свет учения был перенесён через море в Китай, где Бодхидхарма стал первым отцом чань-буддизма в этой стране. Его мантия, как известно, передавалась шести патриархам, и благодаря их усилиям многие умы смогли увидеть свет и обрести просветление.
Ланкаватара-сутра
Ланкаватара-сутра является важным текстом, который в основном ассоциируется с учением, проповедуемым Гаутамой Буддой и его бодхисаттвой по имени Махамати, что в переводе означает «Великая мудрость». Действие этого священного писания происходит в мифической стране Ланка, находившейся под властью Раваны, царя ракшасов. В данной сутре рассматриваются множество тем, связанных с Махаяной, включая такие концепции, как йогачара, философия только разума (читтаматра), три природы, алаявиджнана (или хранилище сознания), внутреннее расположение (готра), природа будды, светлый ум (прабхасварачитта), пустота (шуньята) и даже вегетарианство. Ланкаватара-сутра пользовалась популярностью среди индийских философов, таких как Чандракирти и Шантидева, и оказала значительное влияние на развитие буддизма в Восточной Азии. Этот текст особенно важен для дзэн-буддизма, так как в нем рассматривается ключевой вопрос, касающийся концепции внезапного просветления. Существуют различные версии этой сутры, в том числе одна рукопись на санскрите, найденная в Непале, а также переводы на тибетский и китайский языки. Место действия Ланкаватара-сутры связано с горой Малайя, известной также как Шри Пада, расположенной на Шри-Ланке. Разные учёные, такие как Д. Т. Судзуки и Такасаки Дзикидо, отмечали, что текст может показаться несколько бессистемным и неорганизованным, напоминая записную книжку или ежедневник мастера Махаяны, в котором он фиксировал важные учения. Так, по словам Такасаки Дзикидо, «Ланка» представляет собой мозаику из мелких частей, собранных в рамках сутры, что делает её структуру менее строгой. Существующая на санскрите версия Ланкаватара-сутры состоит из десяти глав, при этом большинство учёных считает, что вводная глава, девятая глава (содержащая дхарани) и последняя глава (состоящая из стихов Сагаткама) являются более поздними дополнениями к тексту. Кроме того, не все версии сутры содержат эти главы, что также вызывает интерес у исследователей. Однако следует отметить, что некоторые стихи из Сагаткама дублируются и встречаются в основной части сутры, что может указывать на их важность и древность. Ланкаватара-сутра опирается на множество ключевых концепций буддизма Махаяны и объясняет их, включая философию школы Йогачара, учение о пустоте (шуньята), а также учения о природе будды (татхагатагарбха) и светящемся уме (прабхасварачитта). Введение к сутре содержит нид, в котором раскрываются основные идеи и концепции, что позволяет читателю глубже понять содержание и смысл текста. Ланкаватара-сутра, важный текст в буддийской философии, часто рассматривается как произведение, которое формирует свою концепцию реальности на основе разума, в значительной степени под влиянием идеалистической традиции, представленной школой Йогачара. В этом произведении утверждается, что «всё сущее – это лишь проявления самого разума». Это означает, что все явления, которые мы воспринимаем, на самом деле являются проявлениями нашего разума, что в буддийской терминологии обозначается как «читтаматра» – «только разум» или «виджняптиматра» – «только идея». Согласно Ланкаватара-сутре, все, что мы воспринимаем как внешнее, на самом деле является проекцией нашего собственного разума. Этот взгляд на реальность, выраженный в терминах свачитта-дршья-матрам, указывает на то, что наше понимание мира связано с нашим внутренним состоянием и представлениями. Гисин Токива, исследователь буддийской философии, подчеркивает, что это утверждение не следует интерпретировать как отрицание существования независимых внешних объектов. Скорее, оно указывает на то, что истинное понимание природы реальности выходит за рамки традиционных концепций, которые разделяют внутреннее и внешнее. Токива также считает, что центральным посылом Ланкаватара-сутры является теория свачиттаматра, которая акцентирует внимание на том, что всё, что мы воспринимаем, является лишь отражением нашего сознания. В тексте также часто упоминаются концепции, связанные с сознанием, такие как «восемь сознаний» и «три природы», а также «пять дхарм». Эти идеи служат основой для понимания того, как мы воспринимаем мир и как наше сознание формирует реальность. Согласно сутре, весь мир является сложным проявлением умственной деятельности, и все явления лишены истинного «я» (анатман) и являются иллюзорными (майя). Они должны рассматриваться как формы, которые видятся в видении или сне, не обладая субстанцией, не имея собственного рождения и не имея собственной природы. Это подчеркивает идею о том, что все вещи, которые мы воспринимаем, на самом деле не обладают независимым существованием и являются лишь проекциями нашего разума. Далее Токива указывает на то, что Ланкаватара-сутра, находясь под значительным влиянием Праджняпарамиты, дополняет идеалистический взгляд на разум концепцией, согласно которой высшая реальность выходит за пределы бинарного деления на бытие и небытие (бхавабхава). Это означает, что высшая истина, или Таковость, превосходит все концепции и взгляды, включая саму природу разума (читта). Таким образом, хотя в некоторых частях «Ланки» утверждается, что существует только «ум», в других разделах подчеркивается, что высшая истина превосходит даже ум, мышление и различение, а также саму субъективность. Важно отметить, что причина, по которой всё находится за пределами бытия и небытия, тесно связана с концепцией о том, что весь наш опыт является лишь проекцией ума. Все переживания, которые мы испытываем, являются отражениями в сознании тех существ, которые их переживают. Это означает, что явления не имеют единой характеристики или способа существования, и их природа зависит от восприятия каждого отдельного индивида.