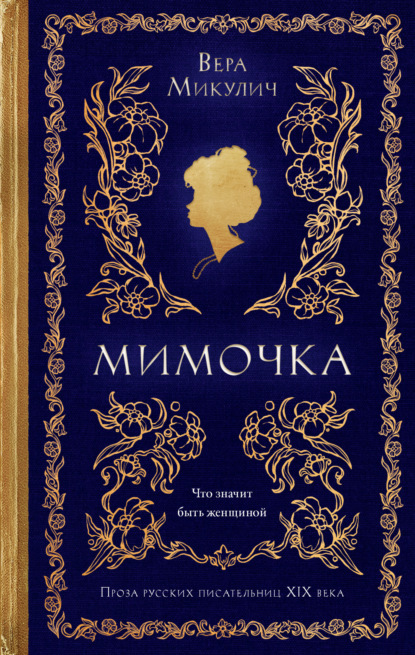Полная версия
Вечера на Карповке
Надобно было видеть всеобщую радость. Молодой Хлебников возвращался домой после довольно долгого отсутствия, и Аграфена Павловна не знала, что делать с радости, увидя опять свое сокровище, своего любимого сынка, свое красное солнышко. Дедушка посмеивался, расправляя свою широкую бороду; дети прыгали около приезжего гостя; один Григорий Иванович не изменил своего положения при виде сына, приветствуя его одним: «А! Здорово, Иван!» – «Не угодно ли будет посмотреть счеты, батюшка?» – спросил Иван Григорьевич, снова почтительно подходя к отцу и остановясь на довольно далеком от него расстоянии. «Добро, после, – отвечал отец, – поди напейся чаю; ты, я думаю, прозяб: ненастье не свой брат». Молодой человек поклонился и подошел к столу, где заботливая мать приготовила уже для него чашку чаю, а Анюта поставила возле свекрови креслы для милого гостя и сама села против него. Тогда-то начались расспросы, рассказы, смех, опять расспросы – словом, та неумолкаемая болтовня сердца, которою оно, кажется, хочет в две минуты вознаградить себя за долгое молчание и высказать все, что терпело в продолжение тяжкой разлуки. Иван Григорьевич не сводил глаз с жены: казалось, он не мог налюбоваться ею. В это время в соседственной комнате, в которую дверь была заставлена шкафом с посудою, послышался стук отодвинутого стула. «Кто это у вас там?» – спросил довольно невнимательно молодой Хлебников, совершенно без намерения взглянув на жену – лицо Анюты вспыхнуло, как зарево; она наклонилась, как будто чего-то искала. Иван Григорьевич нахмурился. «Чего, Ванюша! Вот какую беду господь послал без тебя, – отвечала Аграфена Павловна на вопрос его. – Еще при тебе был к нам назначен полк: ты помнишь это? Вот, накануне рождества богородицы, идем мы от вечерни, а по улицам такая суматоха: везде верховые да солдаты разводят квартиры, да отмечают на воротах, да бегают, как бы невесть что случилось; наутро, слышим, и полк пришел. На ту беду, Григорий Иванович повздорил в думе с городничим; вот к нам и поставили…» – «Вздор, жена, не то говоришь! Повздорили мы с городничим за дело, а постой нам и без того следовал, – сказал Григорий Иванович, не переставая играть. – Ведь дом-то наш не из последних; не солдат же тебе поставить».
«Нешто, батюшка, нешто, – отвечала Аграфена Павловна и потом, оборотившись к сыну, продолжала: – Вот к нам и поставили рот… как бишь его, прости господи! Да! Ротмистра какого-то».
Иван Григорьевич поглаживал черный, едва прорезавшийся ус и кусал губы, что было недобрым знаком, по замечанию Анюты. «А что, молод ли он?» – спросил он.
– Немного постарее тебя, Ванюша, да какой смазливенький и вежливый, нечего сказать; опомнясь, на Введенье никак, Анюта? Грязь такая была, что господи упаси! У нас залили дожди, Ванюша. Этта хотели капусту рубить…
– Ну что же, матушка, на Введенье-то?
– То-то, я хотела тебе сказать. Мы с Анютою приехали от обедни на дрожках; кучер сошел с козел отворить ворота, малый такой проворный, да ввел лошадь на двор под уздцы, глядь, а офицер-то идет с крыльца. Только завидел нас, тотчас снял шляпу, да и поклонился. Да чего еще, сказать-то смешно! взял меня под руку, да и на крыльцо-то ввел. Да никак и тебя также, Анюта? – Иван Григорьевич отодвинул свой стул назад.
– Нет, матушка, – отвечала Анюта, совершенно пурпуровая, – он говорил что-то с вами, когда я прошла, и не заметил меня. Ну, не помню!
– Да для чего же не наняли для него квартиры? – спросил Иван Григорьевич.
– Так угодно было Григорью Ивановичу, – отвечала Аграфена Павловна вполголоса, робко посматривая на мужа.
Между тем разговор переменился: Иван Григорьевич вертел между пальцев конец скатерти, а Аграфена Павловна рассказывала уже своей гостье, как вчера выводила она проклятого сверчка, который, невесть от чего, завелся в спальной, под печью.
– Вы его… не часто видите, матушка? – спросил Иван Григорьевич.
– Вчера видела своими глазами, Ванюша.
– Но он беспокоит вас, – продолжал он несколько вспыльчиво.
– Как же, Ванюша, кричит всю ночь, ну так, что глаз не даст свести.
– Да как же с ним не справятся? Вон бы его! Как это терпеть?
– Э, Ванюша, да как с ним справишься? Скоро ли его выживешь? Я вчера и сургучом-то курила, и два чайника вару вылила на него…
– На кого, матушка, на ротмистра?
– На сверчка, Ванюша. Ну как можно офицера вон? прости господи! как отец услышит тебя! Ведь офицер-то – военный слуга государев. Эх, Ванюша, я думала, что ты про сверчка…
Все засмеялись, даже и дедушка, а Анюте было не до смеха: она видела, что постоялец сильно занимает воображение ее мужа.
Впрочем, все осталось в прежнем порядке: Хлебников не говорил ни слова о постояльце, Анюта была по-прежнему ласкова, покорна, выходила со двора еще реже, белая занавеска окна ее никогда не отдергивалась, а в церкви становилась она в самом углу за колонною. Но с некоторого времени Иван Григорьевич заметил, что Анюта сделалась необыкновенно грустною: часто по возвращении своем домой видел он следы слез на глазах ее, она плакала без него; что могло быть тому причиною? Он любил ее по-прежнему; кажется, не было ни в чем недостатка у Анюты: в семействе все глядели ей в глаза; что ж бы это такое было и отчего особенно эта грусть увеличивалась обыкновенно после свидания ее с матерью? Не наговаривает ли чего теща молодой жене его? Не представляет ли в черном виде затворническую жизнь ее? Не жалуется ли Анюта на скуку, на подзорчивый нрав мужа, не было ли тут какой тайны? Подобные вопросы сменялись один другим в голове Ивана Григорьевича и не давали ему покоя: смотрел ли он на заводе за работами, рассчитывался ли с приказчиками и рабочими, трудился ли в конторе с отцом над выкладками, одна и та же мысль преследовала его, и образ Анюты, печальной, плачущей, носился перед ним; иногда подле нее мелькал другой… Кровь приливалась к сердцу молодого ревнивца, и дыхание его замирало. Но эти подозрения не имели никакого основания; он ничего не мог сказать в подтверждение их ни верного, ни правдоподобного; но верное! возможно ли было бы для него перенести что-нибудь верное? Всего простее было бы спросить Анюту или выведать причину ее грусти, но известно, что простое и близкое всегда ускользает от внимания человека, который, почитая чрезвычайно важным все, что касается до него, преувеличивает затруднения в собственных глазах своих и не довольствуется средствами обыкновенными, почитая их недостаточно важными; к тому же, открыв Анюте слишком рано беспокойство свое, не принудит ли он ее тем самым быть осторожнее? Эта мысль не допускала его до объяснения, которое, может быть, предупредило бы многое. Но ревность закрывает туманом глаза своей жертвы и представляет ей призраки в предметах самых обыкновенных. Будучи хладнокровнее, как мог бы он не угадать истинной причины Анютиной грусти? Но нет, это было бы слишком просто и не входило в рамку, которою ограничивался объем взоров страсти, всегда односторонней и не смотрящей ни на что, не имеющего к ней прямого отношения.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
За и против(лат.).
2
«Ста и одного»(фр.).
3
мадемуазель Эме(фр.).
4
Ревнивец – дитя, что пугается чудищ, порожденных во тьме его собственным воображением.Буат (фр.).