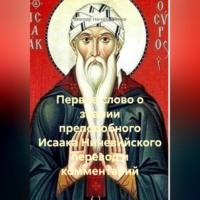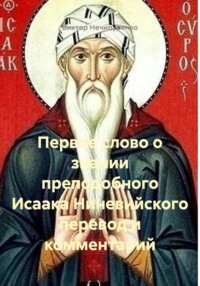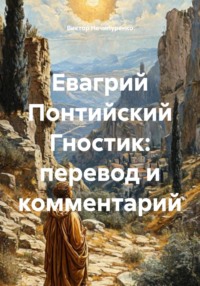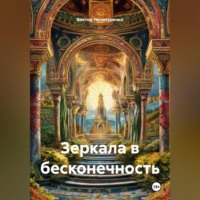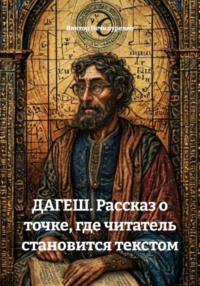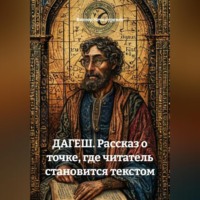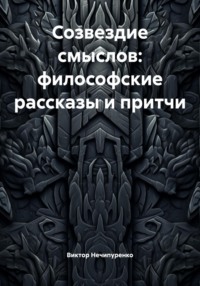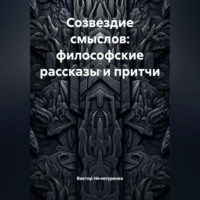Полная версия
Мосты над бездной. Эксперимент по созданию надконфессиональной метафизики
Эпистемологическое смирение
В конце концов, наши инструменты проверки учат нас эпистемологическому смирению. Мы не можем встать в точку Бога, откуда видна вся истина целиком. Мы можем только терпеливо сопоставлять перспективы, искать резонансы и диссонансы, картографировать территорию, которая всегда остаётся больше наших карт.
Но именно это смирение делает наше предприятие честным. Мы не претендуем на создание окончательной метафизики. Мы создаём пространство для разговора – разговора, в котором каждая традиция может узнать себя, не теряя своей уникальности, и узнать другого, не редуцируя его к себе.
Готовы ли вы к такому разговору? Следующие главы покажут, куда он может нас привести.
3. Историко-генетический обзор
3.1. Апофатическая ось: Упанишады – Плотин – Дионисий Ареопагит – Дао дэ цзин – Нагарджуна
Молчание, которое громче слов
Существует странная линия в истории человеческой мысли – линия, которая проходит через континенты и тысячелетия, связывая мудрецов, которые никогда не встречались и часто не знали о существовании друг друга. Это линия апофатики – попытки говорить о невыразимом через отрицание, приближаться к истине через отказ от всех утверждений о ней.
Почему независимо друг от друга индийские риши, китайские даосы, греческие философы и христианские мистики приходили к одному и тому же парадоксальному выводу: самый точный способ говорить об Абсолюте – это говорить о том, чем он не является? И что это говорит о природе самой реальности?
Упанишады: нети-нети – «не то, не то»
Брихадараньяка Упанишада, возможно, VIII век до н.э. Мудрец Яджнявалкья отвечает на вопросы о природе Атмана – истинного Я, которое тождественно Брахману, абсолютной реальности. Но его ответы обескураживают: «На это можно только сказать: нети-нети – не то, не то».
Не то, что можно увидеть – ибо это То, что видит. Не то, что можно помыслить – ибо это То, что мыслит. Не то, что можно познать – ибо это То, что познаёт. Как глаз не может увидеть себя, как нож не может разрезать себя, так Атман не может стать объектом для самого себя.
Но Упанишады идут дальше. Они отрицают не только возможность объективации Абсолюта, но и все привычные категории:
• Он не большой и не малый (размер неприменим).
• Не движется и не покоится (движение и покой – категории пространства-времени).
• Не внутри и не снаружи (пространственные отношения иллюзорны).
• Не един и не множественен (число – это ментальная конструкция).
И вот кульминация в Мандукья Упанишаде: четвёртое состояние сознания, турия, описывается как то, «что не сознает внутреннего, не сознает внешнего, не сознает их обоих, это и не глыба сознания, это не сознание и не отсутствие сознания». Отрицается даже отрицание сознания!
Как же тогда Упанишады вообще могут что-то сообщить? Через парадокс самоотменяющегося указания. Как палец, указывающий на луну, не является луной, так слова Упанишад не являются истиной – они лишь указывают направление, в котором следует искать.
И это направление – внутрь, к источнику самого вопрошания. Кто спрашивает «что есть Брахман»? Найди вопрошающего – и обнаружишь, что искатель и искомое – одно.
Плотин: Единое за пределами бытия и мышления
Плотин, последний великий философ античности, создаёт систему, где апофатика достигает философской строгости. Его Единое – не просто высшая реальность, но то, что превосходит саму реальность.
«Единое не есть сущее» – шокирующее заявление для греческой мысли, где бытие было высшей категорией. Но Плотин неумолим: если Единое – источник всего, оно не может быть чем-то, ибо любое «что» уже предполагает ограничение, определённость, а значит – множественность.
Плотин создаёт то, что современные исследователи называют «генологией» – учение о Едином, которое предшествует онтологии – учению о бытии. Единое:
• Не существует (ибо существование – уже определённость).
• Не мыслит (ибо мышление требует разделения на мыслящее и мыслимое).
• Не благо (ибо благо – уже качество).
• Не единое (ибо даже единство – это предикат) .
И тем не менее – вернее, именно поэтому – Единое есть источник всего: бытия, мышления, блага, единства.
Как познать то, что за пределами познания? Плотин говорит об экстазе – буквально «выхождении из себя». Но это не эмоциональное состояние, а онтологическое событие: душа оставляет все свои определения, все свои качества, саму свою «душевность» – и в этом самоупразднении касается Единого.
Плотин описывает это из личного опыта: четыре раза в жизни он переживал это соприкосновение. «Это не видение, но иной способ видения, экстаз и упрощение, и отдание себя, и стремление к касанию, и покой».
Дионисий Ареопагит: божественный мрак
V или VI век. Автор, скрывающийся под именем ученика апостола Павла, создаёт тексты, которые на тысячелетие определят мистическую теологию и Востока, и Запада. Его трактат «О мистическом богословии» – всего несколько страниц, но они переворачивают всё христианское богословие.
Парадокс: христианство – религия откровения, где Бог открывает Себя в Слове. Но Дионисий утверждает: истинное богословие начинается с отрицания всех имён Божьих. Даже тех, что даны в Писании!
Бог не благ – Он сверхблагой. Не сущий – но сверхсущий. Не един – но сверхъединый. Приставка «сверх» (ὑπέρ) не означает «более» в количественном смысле – она указывает на трансцендирование самой категории.
Кульминация – образ Моисея, восходящего на Синай: «Тогда Моисей отлучается от всего видимого и видящего и во мрак неведения вступает воистину таинственный, после чего оставляет всякое познавательное восприятие и в совершенной темноте и незрячести оказывается, весь будучи за пределами всего, ни себе, ни чему-либо другому не принадлежа, с совершенно неведающей всякого знания бездеятельностью, соединяясь наилучшим образом и ничего не познавая, сверхразумно уразумевает».
Этот «божественный мрак» – не отсутствие света, а избыток света, ослепляющий любое зрение. Не незнание, а сверхзнание, превосходящее разделение на знающего и знаемое.
Дионисий создаёт методологию апофатического восхождения:
1. Отрицаем чувственные образы (Бог не камень, не человек).
2. Отрицаем интеллигибельные категории (не сущность, не благо).
3. Отрицаем само отрицание (не не-сущий, не не-благой).
4. Молчание – за пределами утверждения и отрицания.
Дао дэ цзин: путь, который нельзя назвать
VI век до н.э. (традиционная датировка). Лао-цзы – если он существовал – создаёт текст, который начинается с утверждения собственной невозможности: «Дао, которое может быть выражено словами, не есть постоянное Дао».
Но китайская апофатика отличается от индийской и греческой. Здесь нет стремления к трансцендентному «по ту сторону». Дао имманентно, оно здесь, в самой ткани происходящего – но именно поэтому его нельзя выделить, объективировать, назвать.
Дао дэ цзин полон парадоксов, но это не логические головоломки, а указания на природу реальности:
• «Дао пусто, но в применении неисчерпаемо».
• «Оно туманно и неопределённо, но в нём есть образы».
• «Оно действует недеянием (у-вэй)».
• «Знающий не говорит, говорящий не знает».
Пустота Дао – не отсутствие, а полнота потенциальности, как пустота чаши делает её полезной. Недеяние – не бездействие, а действие без насилия над естественным ходом вещей.
«В мире все вещи рождаются из бытия, а бытие рождается из небытия». Но это небытие (у) – не ничто, а отсутствие фиксированных форм, чистая возможность. Мудрец стремится вернуться к этому состоянию «необработанного дерева» (пу), где ещё нет разделения на это и то.
Даосская апофатика – это не восхождение к трансцендентному, а возвращение к имманентному источнику, который присутствует здесь и сейчас, но ускользает от любой концептуализации.
Нагарджуна: пустота пустоты
Нагарджуна, основатель Мадхьямики (Срединного пути), создаёт самую радикальную апофатику в истории мысли. Его метод – прасанга – сведение к абсурду любой позиции, включая собственную.
Нагарджуна использует древнюю индийскую логическую схему – чатушкоти, но превращает её в машину тотального отрицания. Для любого утверждения о реальности:
1. Не А (вещи не существуют).
2. Не не-А (вещи не не-существуют).
3. Не (А и не-А) (вещи не существуют-и-не-существуют).
4. Не (ни А, ни не-А) (неверно, что вещи ни существуют, ни не-существуют).
Все четыре возможности отвергнуты. Что остаётся? Шуньята – пустота.
Но шуньята – не ничто. Это отсутствие свабхавы – самобытия, независимого существования. Всё возникает во взаимозависимости (пратитья-самутпада), ничто не существует само по себе. Даже пустота пуста от самобытия – она не субстанция, не принцип, не основание.
«Для кого пустота есть воззрение, тот неисцелим», – предупреждает Нагарджуна. Пустота – не новая догма, а лекарство от всех догм, включая догму пустоты.
Нагарджуна различает:
• Самврити-сатья – условная истина обыденного опыта.
• Парамартха-сатья – высшая истина пустоты.
Но высшая истина не отменяет условную – она показывает её природу. Сансара есть нирвана, нирвана есть сансара – не потому, что они одинаковы, а потому, что нирвана – это видение истинной природы сансары.
Резонансы и различия
Все пять фигур совершают сходный жест: отказ от катафатики (положительных утверждений) в пользу апофатики (отрицаний). Все они понимают: Абсолют ускользает от концептуальной сети, и единственный способ на него указать – показать пределы этой сети.
Но траектории различны:
• Упанишады ведут внутрь, к Атману, который есть Брахман.
• Плотин ведёт вверх, к Единому за пределами бытия.
• Дионисий ведёт в божественный мрак сверхсветлого незнания.
• Лао-цзы ведёт к естественности, где нет разделения на путь и идущего.
• Нагарджуна растворяет сам путь в пустоте.
Апофатическая ось создаёт особое пространство для надконфессиональной метафизики. Если все традиции в своей глубине приходят к молчанию, то это молчание – не пустое, а полное. Оно содержит все возможные катафатические высказывания как свои проекции.
Апофатика – не отказ от мышления, а признание его границ. И именно на этих границах, в этом пограничье между словом и молчанием, может родиться метафизика, которая не принадлежит никакой традиции и принадлежит всем.
Современное эхо
Апофатическая линия не прервалась. Хайдеггер говорит о «ничто, которое ничтожит». Деррида создаёт «негативную теологию без теологии». Левинас указывает на «след Другого, который всегда уже ушёл». Современная физика приходит к квантовому вакууму – пустоте, кипящей виртуальными частицами.
Возможно, апофатика – не просто один из путей к Абсолюту, а неизбежный момент любого глубокого мышления о предельном. Момент, когда мысль, достигнув своего предела, переходит в иное – в созерцание, в молчание, в чистое присутствие.
И в этом переходе рождается пространство для того, что мы ищем – надконфессиональной метафизики, которая говорит из молчания и ведёт к молчанию, но молчанию полному, беременному всеми возможными словами.
3.2. Катафатическая ось: Аристотель – Ибн Сина – Аквинат – Моци – Чжан Цзай
Дерзость утверждения
Если апофатики смиренно признают невыразимость Абсолюта, то катафатики совершают дерзкий жест: они утверждают, что разум способен постичь структуру реальности, проследить лестницу бытия от низшего к высшему, от следствий к Первопричине. Они строят соборы из концепций, создают архитектуру мысли, где каждый элемент имеет своё место, а целое указывает на Того, Кто превосходит целое.
Это не наивность – катафатики знают о пределах разума. Но они верят: сам разум есть след Божественного Логоса в творении, и потому, следуя за разумом до конца, мы приближаемся к его Источнику.
Аристотель: мышление, мыслящее само себя
Аристотель разрывает с платоновским миром идей и обращается к конкретной реальности. Но именно через анализ движения и изменения в физическом мире он приходит к необходимости Неподвижного Перводвигателя.
Рассуждение безупречно: всё, что движется, приводится в движение чем-то другим. Но не может быть бесконечного регресса движущих причин – должен быть Первый Двигатель. И этот Двигатель должен быть неподвижным, иначе Он сам нуждался бы в источнике движения.
Но как неподвижное может двигать? Аристотель находит гениальный ответ: как предмет желания и мысли. Прекрасное влечёт к себе, не двигаясь само. Истина притягивает ум, оставаясь неизменной.
Перводвигатель – это чистая энергейя (ἐνέργεια), актуальность без потенциальности. В нашем мире всё находится в процессе перехода от возможности к действительности: семя становится деревом, ребёнок – взрослым, незнание – знанием. Но Перводвигатель всегда уже полностью актуален, в Нём нет никакого «ещё не».
И что же является его актуальностью? Мышление. Но мышление чего? Единственный достойный объект для совершенного мышления – само это мышление. Νόησις νοήσεως – мышление мышления.
Весь космос влюблён в Перводвигателя. Небесные сферы вращаются в вечном танце, подражая его совершенству. Земные существа стремятся к своим целям, неосознанно ища в них отблеск высшего Блага. Даже падающий камень «желает» своего естественного места.
Аристотель создаёт первую систематическую катафатическую метафизику, где каждый уровень бытия имеет своё место, свою цель, свой способ причастности к Абсолюту.
Ибн Сина: Необходимо Сущий
Абу Али ибн Сина (Авиценна для латинского Запада) – врач, учёный, философ – создаёт синтез, который на века определит исламскую философию. Он берёт аристотелевскую логику и наполняет её коранической интуицией абсолютной трансцендентности Аллаха.
Ибн Сина начинает с различения, которое режет реальность по новым линиям: вуджуд (существование) и махийя (чтойность, сущность). В любой вещи можно различить что она есть и то, что она есть. Стол имеет сущность стола и факт существования.
Но существование не вытекает из сущности. Можно полностью понять, что такое феникс, но это не заставит феникса существовать. Значит, для всех вещей существование – акциденция, нечто добавленное извне.
Отсюда вывод: всё в мире – мумкин аль-вуджуд, возможно сущее. Оно может быть, а может не быть. Но если всё только возможно, то почему что-то вообще есть? Должен существовать ваджиб аль-вуджуд – Необходимо Сущий, существование которого не заимствовано, но принадлежит Ему по самой Его природе.
Но как от абсолютно простого Единого происходит множественность мира? Ибн Сина развивает неоплатоническую схему эманации, но придаёт ей новую строгость.
Необходимо Сущий мыслит Себя. Это мышление порождает Первый Интеллект. Первый Интеллект мыслит Необходимо Сущего – и порождает Второй Интеллект. Мыслит себя как необходимого через другого – порождает первую небесную сферу. Мыслит себя как возможного – порождает материю этой сферы.
Так, через каскад интеллектов и сфер, единое порождает многое, не теряя своего единства.
Критики обвиняли Ибн Сину: его Необходимо Сущий – холодная абстракция, не личностный Бог ислама. Но Ибн Сина отвечал: разум может дойти только до порога. То, что Необходимо Сущий есть также Милостивый и Милосердный, Слышащий и Видящий – это дано в откровении. Философия не противоречит вере, а подготавливает к ней.
Фома Аквинский: пять путей к Богу
Фома, доминиканский монах с юга Италии, совершает невозможное: он крестит Аристотеля. Языческий философ, чьи труды были запрещены церковью, становится «Философом» с большой буквы, авторитетом, уступающим только Писанию.
Фома систематизирует катафатический подход в знаменитых «пяти путях» (quinque viae):
1. От движения: всё движимое движимо другим → Неподвижный Перводвигатель.
2. От причинности: цепь причин не может быть бесконечной → Первопричина.
3. От возможности: возможное требует необходимого → Необходимо Сущий.
4. От степеней совершенства: сравнительные степени требуют абсолюта → Совершеннейшее Существо.
5. От целесообразности: порядок требует упорядочивающего → Высший Разум.
Каждый путь начинается с эмпирического факта и через логическую необходимость восходит к Богу.
Но как наши концепции, взятые из тварного мира, могут прилагаться к Творцу? Фома развивает учение об analogia entis – аналогии бытия. Когда мы говорим «Бог благ» и «человек благ», слово «благ» используется не однозначно (это был бы антропоморфизм) и не двусмысленно (тогда мы ничего не могли бы сказать о Боге), но аналогически.
Божественная благость относится к человеческой как бесконечное к конечному, как источник к производному, как образец к отражению. Мы действительно что-то знаем о Боге через творение, но это знание всегда несовершенно, всегда «с оговоркой».
Фома различает:
• Истины разума (Бог существует, Он един, Он благ) – доступны философии.
• Истины откровения (Троица, Воплощение, Искупление) – требуют веры.
Но это не два этажа, где вера надстраивается над разумом. Это скорее две перспективы на одну реальность. Разум подготавливает к вере, вера очищает и возвышает разум.
Моци: небесная воля и универсальная любовь
Мо-цзы (Моци) – странная фигура в китайской философии. В культуре, где доминировали конфуцианский ритуализм и даосская спонтанность, он создаёт почти западную по духу рационалистическую систему с трансцендентным Небом в центре.
Моци не столько доказывает существование Неба (Тянь), сколько его волю и провидение. Его аргумент прагматичен: посмотрите на историю – династии, следовавшие воле Неба, процветали; нарушавшие её – падали. Добродетель вознаграждается, порок наказывается – не всегда немедленно, но неизбежно.
Это не слепая судьба, а разумный моральный порядок. Небо «желает праведности и ненавидит неправедность». У него есть воля (чжи), знание (чжи) и любовь (ай).
Самое радикальное в учении Моци – концепция цзянь ай, «всеохватывающей любви». Конфуцианцы учили о градации любви: сильнее всего любишь родителей, затем родственников, затем соплеменников. Моци возражает: именно эта партикулярная любовь – источник конфликтов. Если я люблю только своих, я буду красть для них у чужих.
Решение – любить всех одинаково, «смотреть на чужие государства как на своё, на чужие семьи как на свою, на чужих людей как на себя». Это не эмоциональное требование, а рациональный принцип: только универсальная беспристрастная любовь может создать гармоничное общество.
Откуда взять силы для такой любви? Моци указывает на Небо: «Небо всеохватывающе и беспристрастно… оно изливает свой свет на всех без различия». Солнце светит и на праведных, и на грешных. Дождь орошает поля и богатых, и бедных.
Человек должен подражать Небу, становиться проводником его универсальной любви. Это не мистическое единение, а этическое уподобление.
Чжан Цзай: Великая пустота и материальная сила
Чжан Цзай создаёт удивительный синтез, который можно назвать «материалистической метафизикой» – если понимать материю не как мёртвую субстанцию, а как живую космическую силу.
В начале – Тайсюй, Великая Пустота. Но это не ничто, а чистое ци в состоянии абсолютного равновесия и недифференцированности. Чжан Цзай использует даосские термины, но наполняет их новым содержанием: пустота – это не отсутствие, а полнота потенциальности.
«Великая Пустота не может не состоять из ци; ци не может не сгущаться, образуя все вещи; вещи не могут не рассеиваться, возвращаясь в Великую Пустоту».
Ци – это не статичная субстанция, а динамическая сила, постоянно пульсирующая между сгущением (чэн) и рассеянием (сань). Когда ци сгущается, появляются вещи. Когда рассеивается – они исчезают. Но само ци неуничтожимо.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.