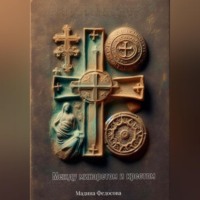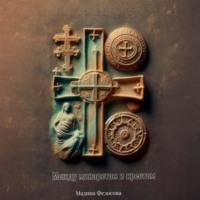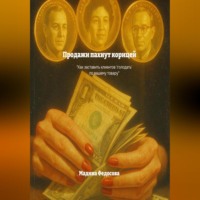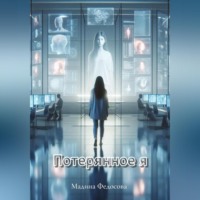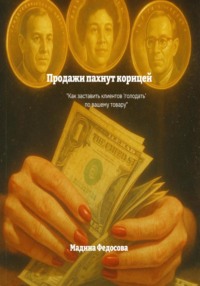Полная версия
Несделанный портрет

Мадина Федосова
Несделанный портрет
Предисловие автора
Эту книгу я начала писать в Абхазии. Вернее, я приехала сюда с тетрадью и готовой идеей, но очень скоро поняла, что настоящая история пишет себя сама – стоит только отбросить все ожидания и начать слушать.
Слушать шум горной реки, в котором смешались отголоски давних войн и радость сегодняшнего дня. Слушать тишину, что наступает после того, как в доме гаснет свет, и рождает самые честные разговоры. Слушать людей, для которых слова «один в поле не воин» – не красивая пословица, а закон выживания.
Мне посчастливилось встретить их. Людей, чья гордость не крикливая, а глубоко внутренняя, как корни виноградной лозы в камне. Они научили меня простой и страшной правде: иногда, чтобы найти настоящий сюжет, нужно потерять все свои планы. А чтобы понять человека, нужно отказаться от желания сделать из него героя.
Эта книга – не вымысел. Это попытка передать дыхание этого места, его тепло, его боль и его несгибаемую радость. Это попытка ответить на вопрос, где заканчивается право писателя и начинается ответственность перед чужой жизнью.
Надеюсь, у меня получилось.
Мадина Федосова
Пролог
Бывают места, которые не встречают тебя шумом. Они встречают тебя молчанием. Таким полным и глубоким, что в его гуле начинаешь слышать биение собственного сердца. Таким молчанием встретила меня Абхазия в тот первый вечер, когда я вышла из машины и осталась одна на берегу.
Воздух был густым и тяжёлым, настоянным на запахах, которые я потом долго пыталась разложить по полочкам в памяти. Сладковатый дым ольховых дров, которым топят печи в соседнем селении. Пряная горьковатость полыни, растущей у самой кромки дороги. Свежесть, которую ветер гнал с заснеженных вершин, и, наконец, насыщенный, почти осязаемый запах старого камня и моря. Не того молодого, курортного моря, а древнего, миоценового, будто в каждой крупинке соли здесь заперта история.
Я шла по гравийной дорожке к дому, который сняла на месяц. Справа темнел остов санатория «Энергетик», его пустые глазницы окон смотрели на море с немым укором. Когда-то здесь кипела жизнь, звучала музыка, смех. Теперь лишь шорох волн да скрип моих шагов. На ржавой вывеске, едва читаемой под слоем плюща, кто-то углем вывел: «Апсны – страна души». И в этой надписи, сделанной чьей-то неуверенной рукой, было больше правды, чем во всех путеводителях.
Мой дом оказался старым, каменным, с резными деревянными ставнями. Ключ скрипнул в замке, и мне навстречу пахнуло теплом печного кирпича, сухими травами и пылью. На столе в гостиной лежала записка от хозяйки, написанная красивым, старомодным почерком: «Добро пожаловать. Вода из колонки. Свет может гаснуть. Если что – я в соседнем доме, справа. Мадина».
Я оставила чемодан у порога и вышла на маленький балкон. Внизу, за зарослями ежевики, угадывалась железная дорога, тоже давно замолчавшая. А за ней простиралось море. Не синее, как на открытках, а свинцово-серое в этот предвечерний час, тяжёлое и бесконечно спокойное. Ощущение было таким, будто я не просто приехала в другую страну. Я попала в другое время. В тот его пласт, где жизнь течёт медленно, подчиняясь солнцу и ветру, а не секундной стрелке на часах.
Именно в этот момент, глядя на угасающий день, я впервые почувствовала не уверенность профессионального охотника за сюжетами, а щемящую, почти детскую робость. Я привезла с собой блокноты, диктофон, целый ворох ожиданий и готовых формул. Я искала Горца. Того самого, из романтических книг – сурового, молчаливого, с лицом, высеченным из гранита, и глазами, полными вековой мудрости.
Я нашла его на следующий же день. Вернее, он нашёл меня, когда я заблудилась, пытаясь отыскать руины старого храма. Его звали Астамур. И с первой же фразы, с первого взгляда его спокойных, всепонимающих глаз, я поняла – он идеален. Он был готовым героем, живой иллюстрацией к моему будущему роману.
Я принялась за работу с усердием ювелира. Я выписывала каждую его черту: морщины у глаз, похожие на лучики от солнца, грубые, исцарапанные лозой руки, неторопливую речь. Я собирала его, как мозаику: «мудрый», «спокойный», «хранитель традиций». Я создавала прекрасную, выверенную легенду. Я уже придумала название – «Винодел из Апсны».
А потом эта легенда посмотрела на меня. Не как на писательницу, а как на человека. И в его взгляде я прочитала нечто такое, от чего мой аккуратный черновик вдруг показался мне детским лепетом, жалкой пародией на жизнь. Его молчание было не просто отсутствием слов. Оно было полно значений, боли, памяти и такой простой, такой сложной правды, что мои самые удачные метафоры показались мне картонными декорациями.
Эта книга – не тот роман. Тот роман так и остался лежать в столе, в синей папке с надписью «Абхазия. Материалы». А это – история о том, почему я не смогла его дописать. Почему самый главный портрет в моей жизни так и остался несделанным. Потому что настоящая жизнь начинается там, где ты отваживаешься отложить в сторону карандаш и просто посмотреть в лицо правде. Без грима.
Часть первая
Обретение музы
Глава 1
Петербургский блокнот
Туман в тот день был особенным – не белым и пушистым, как на открытках для туристов, а серым, влажным и невероятно тяжёлым. Он висел над городом с самого утра, застилая грязновато-жёлтые фасады домов вдоль набережной канала Грибоедова, превращая купола Никольского собора в размытые пятна и оседая мельчайшей водяной пылью на лицах редких прохожих. Дали сидела у самого большого окна в своей квартирке на втором этаже старого дома на Петроградской стороне и смотрела, как этот туман медленно пожирает город. Окно было распахнуто, несмотря на ноябрьский холод, и струйка ледяного воздуха, смешанного с запахом мокрого асфальта, угля из печных труб и какой-то вечной речной сырости, вползала в комнату, заставляя ее кутаться в большой шерстяной плед.
Комната была залита тем особенным питерским светом, который бывает только поздней осенью – плоским, безобъемным, лишающим предметы их плотности и красок. Книжные полки, забитые ровными корешками ее же детективов, казались декорацией. Стол из тёмного дуба, на котором лежал раскрытый ноутбук и несколько горстей исписанных листов, выглядел не рабочей поверхностью, а постаментом для чего-то давно умершего. Самый дорогой предмет в комнате – старинный торшер с абажуром цвета выцветшей бронзы – был бесполезен; его свет тонул в серой мгле за окном, не в силах пробить ее.
На коленях у Дали лежал толстый кожаный блокнот, подарок от поклонников после выхода самого успешного ее романа. На первой странице, выведенное изящным, почти каллиграфическим почерком, красовалось название: «Хелен Картрайт и Тайна Лабиринта». Ниже – три строчки, тщательно зачёркнутые чёрными чернилами. Ещё ниже – одна-единственная фраза, написанная с таким отчаянием, что буквы въелись в бумагу: «Глава первая. Она вошла в библиотеку и поняла, что что-то не так».
И все. Дальше – пустота. Пустота, которая длилась уже три недели. Пустота, которая была не на бумаге, а внутри, холодная, липкая и бездонная, как воды Невы у Летнего сада зимой.
Резкий, вибрирующий звук заставил ее вздрогнуть. На экране телефона, лежавшего на столе, плясало имя: «Сергей Петрович Литвинов. Издательство «Вершина». Дали медленно, будто делая какое-то усилие, протянула руку и взяла трубку.
– Дали, солнышко моё! – голос издателя был густым, бархатным, привыкшим продавать. В нем слышался фон – гул голосов, звон посуды; он явно был в ресторане. – Как поживает наша общая надежда? Я уже мысленно представляю, как «Тайна Лабиринта» взрывает списки бестселлеров!
Дали посмотрела на свою единственную фразу. «Она вошла в библиотеку…» Какая банальность.
– Сергей Петрович, я в процессе, – выдавила она, стараясь, чтобы голос звучал бодро. – Обкатываю завязку. Хочется чего-то… свежего.
– Свежего? – В голосе Литвинова послышалась настороженность. – Дали, дорогая, зачем свежесть, когда есть проверенный рецепт? Ваши читатели – а это, напомню, триста тысяч человек по последнему тиражу – ждут от вас именно того, что вы делаете лучше всех: изящного убийства, блестящей детективной интриги, шикарных интерьеров. Помните, как в «Убийстве на Хинтеркайфеке»? Там же был идеальный баланс! Никакой лишней философии, только чистый, как слеза, сюжет.
«Я задыхаюсь, Сергей Петрович, – молча сказала ему Дали. – Мне сорок лет, и я вся состою из придуманных смертей. У меня нет своей жизни, у меня есть только сюжеты».
– Я понимаю, – сказала она вслух. – Просто… хочется глубины.
– Глубина – это когда труп находят на дне бассейна, – засмеялся издатель. – Шучу, шучу! Ладно, не томите, жду первые три главы к пятнице. И помните – динамика! Читатель должен проглотить книгу за ночь. Держитесь в тонусе!
Щелчок в трубке прозвучал как приговор. Дали опустила телефон на стол. Тишина в комнате снова стала абсолютной, нарушаемая лишь редкими гудками машин на улице. Она подошла к окну и прижалась лбом к холодному стеклу. Внизу, на мокрой мостовой, женщина в чёрном пальто пыталась поймать такси, безнадёжно махая рукой. Ни одна машина не останавливалась. Мимо неё проходили люди, уткнувшись в экраны телефонов, их лица были пустыми и сосредоточенными на своём внутреннем мире. Этот город был прекрасен своей архитектурной гармонией и ужасен человеческим отчуждением. Каждый здесь был островом, и мостов между островами не существовало.
Вечером она пошла в круглосуточный супермаркет через дорогу. Яркий, неестественный свет люминесцентных ламп резал глаза. Полки ломились от идеально упакованных товаров, но ни один из них не вызывал желания. Она механически положила в корзину пачку гречки, банку тунца, бутылку минералки. Очередь на кассу была длинной. Впереди неё стоял молодой парень в куртке с капюшоном, не отрывавший взгляда от смартфона, где мелькали яркие видеоролики. Перед ним – пожилая женщина с тележкой, заваленной дешёвыми консервами и пачками макарон. Её руки, в синих прожилках, дрожали, когда она выкладывала товары на ленту.
– Ваша скидочная карта недействительна, – равнодушным голосом произнесла кассирша, девушка с уставшим лицом и нарисованными бровями.
– Как недействительна? – голос старушки дрогнул. – Я же всегда ей пользуюсь! Вчера ещё покупала!
– Условия акции изменились. Вам нужно было зарегистрировать новую карту на сайте.
– На сайте? – женщина растерянно заморгала. – Да я и компьютера-то не знаю… Это же всего пять процентов… Неужели нельзя?
– Правила есть правила, – кассирша избегала смотреть ей в глаза, уставившись в монитор.
Дали наблюдала за этой сценой, и ее писательский мозг автоматически начал анализировать: «Старушка, живущая на одну пенсию. Её унижают из-за копеечной скидки. За этим стоит что? Одиночество? Больной муж?». Она искала драму, поворот, конфликт – сырье для будущей книги. Этот профессиональный рефлекс вызывал у неё тошноту. Она превращала чужую боль в сюжетный ход.
Никто в очереди не вмешался. Парень в капюшоне громко вздохнул, выражая нетерпение. Остальные смотрели в сторону. Воздух был наполнен густым, почти осязаемым равнодушием.
Вернувшись домой, Дали села за стол. На экране ноутбука по-прежнему сиротливо висела одна фраза. Она взяла ручку и в блокноте, под зачёркнутым названием, вывела: «Одиночество – это когда ты становишься читателем собственной жизни, постоянно листая страницы в поисках интересного момента, но так и не находя его».
Она отшвырнула ручку. Это была не просто фраза. Это был диагноз.
Она подошла к книжному шкафу и провела рукой по корешкам. Её взгляд упал на самый дальний, тёмный угол полки. Там, за аккуратным рядом ее собственных книг, стояла одна неприметная, без обложки, с пожелтевшими от времени страницами. Она вытащила ее. «Сказки и легенды горских народов». Сборник советских времён, купленный на развале у станции метро «Горьковская» лет пятнадцать назад, в другую жизнь.
Она открыла книгу наугад. Страница пахла пылью и старым деревом. Её глаза упали на абзац, выделенный курсивом: «Мудреца спросили: что сильнее – горный ветер или человеческое сердце? Мудрец ответил: ветер разрушает скалы, но не может сдвинуть камень, лежащий на могиле воина. Сердце же может поднять этот камень, если за ним память. И потому сердце сильнее, ибо оно помнит».
Дали сидела так долго, почти не дыша, глядя в серое питерское окно, за которым медленно сгущались сумерки. Потом она резко встала, подошла к компьютеру, нашла файл с названием «Тайна Лабиринта_черновик_1» и одним щелчком мыши отправила его в корзину. Звук удаляемого файла прозвучал как хлопок захлопнутой двери.
Она открыла новый документ. Курсор мигал на чистом листе, ожидая. Дали выдохнула и набрала в поисковой строке браузера три простых слова: «Абхазия. Как добраться. Гостевые дома».
Сердце забилось странно и часто, как будто делая первый глоток воздуха после долгого удушья. Это был не просто поиск в интернете. Это было начало побега. Побега из собственной, выстроенной по всем законам жанра, успешной и абсолютно безжизненной истории.
Глава 2
Дорога, которая помнит всех
Решение пришло не как озарение, а как медленное таяние льда в горном ручье. Три дня Дали металась по квартире, из угла в угол, не в силах ни писать, ни читать, ни даже смотреть в окно на привычный питерский пейзаж, который теперь казался серой декорацией к чужой пьесе. Мысли путались, обрывки фраз из будущего романа смешивались с голосом Сергея Петровича: «Динамика, Дали, динамика! Читатель должен глотать страницы!»
На четвёртый день, под утро, когда за окном только-только начинало сереть, она встала, подошла к книжному шкафу и вытащила тот самый потрепанный том «Сказок и легенд горских народов». Книга раскрылась на странице, где был заложен старый трамвайный билет. И снова ее глаза упали на ту же фразу: «…сердце сильнее, ибо оно помнит».
Она села на пол, прислонившись спиной к холодной батарее, и просидела так до самого рассвета. А когда в окно ударили первые лучи солнца, слабые и беспомощные, она вдруг поняла: все, что ей нужно, – это не новый сюжет. Ей нужен новый воздух. Воздух, который не пахнет болотной сыростью Невы и остывшим кофе.
Сборы были стремительными и почти иррациональными. Она не брала платьев, каблуков, дорогой косметики. Из профессионального арсенала – только три толстых блокнота в кожаном переплёте и целый футляр простых карандашей разной мягкости. Ноутбук остался на столе, мёртвым грузом. Диктофон – в ящике. «Если я не смогу выразить это на бумаге карандашом, значит, это не стоит запоминать», – подумала она.
В аэропорту Пулково ее ждал первый сюрприз. Рейс задержали на четыре часа. Дали купила чашку безвкусного кофе в пластиковом стаканчике и устроилась у огромного панорамного окна, выходившего на взлётное поле. Рядом с ней расположилась семья – полная женщина в ярком платке, мужчина с усталым лицом и девочка лет семи.
– Мам, а мы успеем? – капризным голосом спросила девочка, теребя край материнской куртки.
– Успеем, дочка, успеем. Самолёт ждать будет, – женщина гладила ее по голове, а сама с тревогой смотрела на табло.
Мужчина что-то бормотал себе под нос, сверяясь с распечаткой. Дали наблюдала за ними и ловила себя на том, что придумывает им биографии. «Летят к морю, коротать ноябрьские праздники. Он – бухгалтер, она – учительница. Устали от города…» Она с силой тряхнула головой, прогоняя привычный рефлекс. «Нет. Просто люди. Просто семья».
Самолёт был почти пустым. Дали заняла место у иллюминатора. Когда лайнер оторвался от земли и пошёл на набор высоты, она, прижавшись лбом к холодному стеклу, смотрела, как Питер превращается в скопление серых кубиков, прорезанных серебряными нитями рек, а потом и вовсе исчезает в сплошной пелене облаков. И снова это странное чувство – не страх полёта, а ощущение, будто обрываются невидимые нити, привязывавшие ее к прежней жизни.
В аэропорту Адлера ее ударил в лицо шквал запахов. Не просто тёплый воздух, а густой коктейль из ароматов моря, цветущих растений, жареных семечек, шашлыка и выхлопных газов. Она стояла на эскалаторе, спускавшемся в зал прилёта, и не могла надышаться. После стерильного воздуха салона самолёта эта гремучая смесь казалась воплощением жизни.
У выхода толпились таксисты.
– Девушка, до Сочи? Сто рублей!
– В Красную Поляну? Быстро, комфортабельно!
Дали, сжимая в руках рюкзак, пробилась сквозь эту толпу к выходу. Нужно было найти автовокзал. Она спросила дорогу у пожилого мужчины в форме аэропортовского работника.
– Вокзал? – он внимательно посмотрел на неё. – Вам на маршрутку? До границы?
– Да.
– Идите прямо, потом налево. Там остановка. Смотрите, чтобы на лобовом стекле было написано «Псоу».
Остановка представляла собой хаотичное скопление микроавтобусов. Водители кричали названия посёлков, зазывая пассажиров. Дали нашла нужную «Газель» и села в салон. Машина была почти пуста. Рядом с водителем сидел парень с гитарой в чехле.
– Поехали? – обернулся водитель, смуглый мужчина с усами и в кепке. – Ещё два места всего, и полный комплект.
Ждать пришлось недолго. В салон поднялась пожилая пара. Мужчина, грузный, с большими руками рабочего, устроился сзади, а его жена, хрупкая женщина в платочке, села рядом с Дали.
– Ох, духота-то какая, – вздохнула она, обмахиваясь краем платка.
– Ничего, тётя Манана, сейчас поедем, ветерком обдует, – успокоил ее водитель.
Он тронулся с места, и маршрутка вырулила на трассу. За окном поплыли яркие, почти карнавальные картины южного города: пальмы, кипарисы, розовые олеандры, огромные рекламные щиты с загорелыми людьми. Но очень скоро пейзаж начал меняться. Слева, за полосой деревьев, засинело море. Не спокойное и ласковое, как на открытках, а мощное, с высокими белыми барашками волн, разбивающихся о бетонные волнорезы. Справа же встала стена – настоящая, зелёная, живая стена гор. Они подступали так близко к дороге, что казалось, можно протянуть руку и коснуться шершавого камня, поросшего мхом.
– Красиво, да? – сказала соседка, заметив, что Дали не отрывает взгляда от окна.
– Очень, – выдохнула та.
– Вы к нам впервые?
– Да.
– Надолго?
– Не знаю. Месяц, может быть.
– Правильно, – кивнула женщина. – Наш край быстро не отпускает. Он испытывает сначала. А потом… потом прикипаешь душой.
Маршрутка сделала остановку в какой-то придорожной чайной. Водитель объявил десятиминутный перекур.
– Выходите, разомнётесь, – предложил он пассажирам.
Дали вышла. Воздух здесь был ещё гуще. Он пах влажной землёй, прелой листвой, дымком от мангала, на котором жарили кукурузу, и каким-то незнакомым, горьковато-пряным растением. Она подошла к краю обочины. Внизу, в глубоком ущелье, шумела горная река, ее вода была молочно-зелёного цвета от растворённой в ней горной породы. Где-то высоко в лесу кричала птица – протяжно и тоскливо.
– Красота-то какая, – раздался рядом голос. Это был парень с гитарой. – Я каждый раз, когда еду, останавливаюсь тут. Не могу надышаться.
– Вы местный? – спросила Дали.
– Из Питера, как и вы, – улыбнулся он. – По акценту слышно. Я тут уже третий год живу. Музыкой занимаюсь. Переехал и не жалею.
Он достал из кармана пачку сигарет, предложил Дали. Она отказалась.
– А вы зачем приехали? – спросил он, прикуривая.
– Писать, – честно ответила Дали.
– Писать? – парень удивлённо поднял бровь. – Ну, тогда вам точно по адресу. Здесь каждая тропинка – готовая поэма. Только… – он задумался, выпуская дым кольцом. – Только не пытайтесь все понять умом. Здесь нужно чувствовать. Сердцем. Иначе ничего не получится.
Прогремел гудок. Водитель звал всех в салон. Дорога до границы заняла ещё полчаса. Чем ближе они подъезжали к Псоу, тем величественнее становились горы. Они нависали над дорогой тёмно-зелёными исполинами, уходящими вершинами в низкие облака.
Пешеходный мост через границу был длинным и каким-то безвоздушным. Люди шли по нему неспешно, с чемоданами, коробками, детскими колясками. Дали шла в общем потоке, и странное чувство охватило ее снова. Казалось, что она переходит не просто административную границу, а невидимый рубеж между двумя измерениями. За спиной оставался шумный, суетливый мир, а впереди… впереди была тишина, которую она уже начала ощущать кожей.
На абхазской стороне царила умиротворенная суета. Люди толпились у небольших лавок, где продавали местный чай, специи, мёд. Дали нашла маршрутку до Гагр. Это была ещё более древняя «Газель», вся исцарапанная, но с ухоженным салоном.
– Садитесь, красавица, сейчас поедем, – сказал водитель, молодой парень в спортивной куртке. – Рюкзак на полку кидайте.
Он тронулся, и почти сразу же включил музыку. Из колонок полилась незнакомая мелодия – ритмичная, с гортанным мужским вокалом и звуками какого-то струнного инструмента.
– Что это? – не удержалась Дали.
– Это песня про нашу реку Бзыбь, – объяснил водитель. – Про то, как она с гор бежит к морю. Как и все мы, в общем-то.
Дорога вилась серпантином между морем и горами. За каждым поворотом открывались новые, все более захватывающие виды. Дали не могла оторвать глаз от окна. Она видела развалины старых дач, поросшие плющом и диким виноградом; небольшие селения, где у дороги стояли столики с мандаринами и фейхоа; детей, игравших в футбол на поляне; стариков, сидевших на завалинках и неторопливо беседовавших.
Однажды маршрутка остановилась, чтобы подобрать женщину с двумя сумками, полными зелени.
– Спасибо, Руслан, – сказала она, усаживаясь.
– Не за что, баба Лида, – кивнул водитель.
Они проехали ещё немного, и женщина, заметив восхищенный взгляд Дали, сказала:
– Красиво у нас, да? Вот эти горы… они ведь живые. Они все видят, все помнят.
– Помнят? – переспросила Дали.
– А как же! – женщина улыбнулась, и ее лицо покрылось сетью добрых морщинок. – Помнят каждую войну, каждую слезу, каждую радость. Они как старики-аксакалы. Молчат, но знают все.
Маршрутка довезла ее до самого гостевого дома в Старой Гагре. Хозяйка, женщина по имени Лиана, встретила ее на крыльце.
– Дали? Проходите, проходите. Я вас ждала. Комната на втором этаже готова.
Комната оказалась простой, даже аскетичной: железная кровать с горой подушек, деревянный стол, стул и дверь на балкон. Но когда Дали вышла на балкон, она ахнула. Прямо перед ней, подступая почти вплотную, стояли горы. Они были уже не зелёными, а тёмно-лиловыми в лучах заходящего солнца. Где-то внизу шумела невидимая река. Воздух пах хвоей, влажным камнем и дымком – кто-то топил печь.
Дали вернулась в комнату, достала из рюкзака блокнот и карандаш. Она села за стол, открыла чистую страницу и долго сидела, глядя в пустоту. Потом ее рука сама потянулась к бумаге, и она вывела: «День первый. Я приехала. Я ещё ничего не знаю. Но кажется, я наконец-то начала дышать».
Глава 3
Первое утро в стране души
Проснулась Дали от того, что по крыше забарабанил частый стук – начался тёплый, короткий ливень, какой часто бывает в горах по утрам. Она лежала под лёгким одеялом, прислушиваясь к шуму воды и гулкому эху, которое рождалось где-то в ущельях. Было странно осознавать, что над головой не соседи, а настоящая черепичная крыша, по которой струится дождевая вода. Воздух в комнате был насыщен запахом влажного дерева, старого камня и едва уловимого аромата каких-то полевых цветов, принесённых ветром с гор.
Когда дождь стих, Дали выглянула в окно. Перед ней открывалась панорама, от которой перехватывало дыхание. Дом стоял на самом склоне, и прямо под окном начинался сад – заросли винограда, раскидистые деревья хурмы, ветви которых гнулись под тяжестью оранжевых плодов, и кусты с ярко-красными ягодами, которые она позже узнала как мушмула. А дальше, уходя вдаль, лежала долина, утопающая в изумрудной зелени, и синева моря, сливающаяся на горизонте с небом.
Спустившись вниз, она нашла хозяйку, Амину, в большой просторной кухне с глиняным полом и открытым очагом. Амина стояла у стола и раскатывала тесто для хлеба. Руки ее, покрытые сеточкой морщин, двигались с удивительной ловкостью и точностью.
– Доброе утро, дитя моё, – улыбнулась она, и все ее лицо озарилось теплом. – Вижу, горы тебя разбудили? Они здесь будильник лучше любого.
– Доброе утро, Амина. Да, дождь разбудил, но это был такой приятный пробужденье.
– Дождь – это благословение, – сказала женщина, посыпая тесто мукой. – Земля пьёт, сады радуются. Садись, чай уже готов.