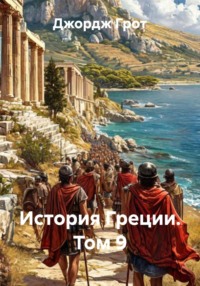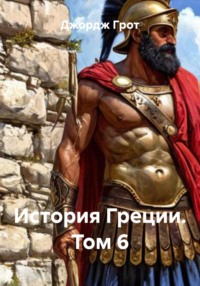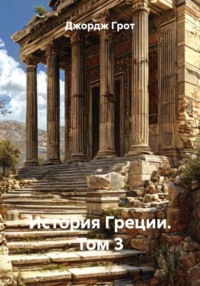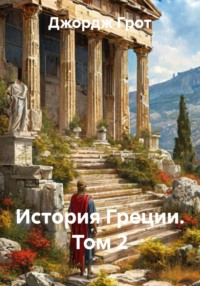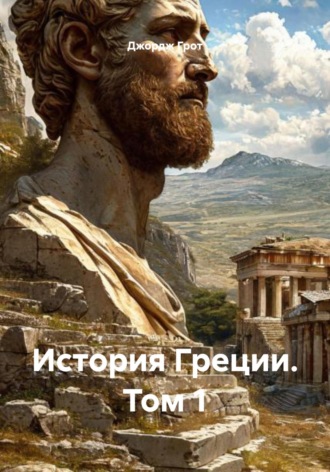
Полная версия
История Греции. Том 1
До сих пор мы достаточно ясно прослеживаем нравоучительную линию: видим, что прошлые перевороты устроены так, чтобы частично служить этическим уроком, частично – подходящим предисловием к настоящему.[154] Но четвертым в списке идет «божественный род героев»: здесь поэт открывает новую линию мысли. Симметрия его этического прошлого нарушается, чтобы дать место этим дорогим существам народной веры. Ибо хотя автор «Трудов и дней» сам был склонен к дидактическому мышлению,[p. 69] подобно Фокилиду, Солону или Теогниду, он, как и его соотечественники, живо ощущал картину греческой древности, представленную в распространенных мифах, а еще больше – у Гомера и других эпических творениях, которые в то время были единственной существующей литературой и историей. Для него было невозможно исключить из своего очерка прошлого ни великих личностей, ни славные подвиги, воспетые этими поэмами; и даже если бы он сам согласился на такое исключение, его рассказ стал бы неприемлем для слушателей. Однако вожди, сражавшиеся под Фивами и Троей, не могли быть отождествлены ни с золотым, ни с серебряным, ни с медным родом. Более того, их следовало поместить в непосредственной близости к нынешнему роду, поскольку их потомки, реальные или мнимые, были самыми заметными и выдающимися среди современных людей. Поэтому поэт вынужден отвести им четвертое место в последовательности и прервать нисходящее этическое движение, чтобы вставить их между медным и железным родом, с которыми они не имеют ничего общего. Железный род, к которому, к несчастью, принадлежит сам поэт, является законным преемником не героического, а медного рода. Вместо яростной и самоуничтожающей воинственности, характеризующей последний, железный род проявляет совокупность меньших и низменных пороков и зол. Он не погибнет от самоистребления – но становится все хуже и хуже, постепенно теряя силу, так что Зевс не станет долго терпеть такое поколение на земле.
Таким образом, мы видим, что последовательность родов, созданная поэтом «Трудов и дней», – продукт двух различных и противоречивых линий воображения: дидактической или этической, смешанной с изначальной мифической или эпической. Его поэма примечательна как древнейшее дидактическое произведение греков и как один из первых признаков проникновения в их литературу нового тона чувств, который впоследствии уже не исчезал. Настроение «Трудов и дней» антигероично: вместо того чтобы вдохновлять восхищение перед рискованными предприятиями, автор проповедует строжайшую справедливость, неустанный труд, бережливость и трезвую, если не сказать тревожную, оценку всех мельчайших деталей будущего. Благоразумие и честность – его средства, а практический комфорт и[p. 70] счастье – цель. Но он глубоко чувствует и остро обличает многочисленные грехи и недостатки современников в сравнении с этим главным стандартом. Он отворачивается от нынешних людей не потому, что они слишком слабы, чтобы метнуть копье Ахилла или огромный пограничный камень, а потому, что они алчны, коварны и бесчестны.
Демоны, впервые введенные в религиозную атмосферу греческого мира автором «Трудов и дней» как существа, отличные от богов, но по природе добрые, служащие посредниками и стражами между богами и людьми, заслуживают внимания как зародыш учения, которое впоследствии претерпело множество изменений и стало важным – сначала как элемент языческой веры, затем как инструмент ее свержения. Следует помнить, что погребенные остатки полупорочного серебряного рода, хотя и не признаются демонами, все же считаются имеющими самостоятельное существование, имя и достоинство в подземном мире. Легко было сделать шаг к тому, чтобы считать их тоже демонами, но демонами порочными и зловредными: этот шаг сделали Эмпедокл и Ксенократ, отчасти поддержанные Платоном.[155] Так у языческих философов появились демоны как добрые, так и злые, во всех степенях. Эти демоны стали удобным объяснением многих явлений, которые неудобно было приписывать действию богов. Они избавляли богов от ответственности за физическое и моральное зло, а также от необходимости постоянно вмешиваться в мелкие дела; предосудительные обряды языческого мира оправдывались тем, что иначе нельзя было умилостивить требования зловредных существ. Чаще всего их замечали как источники зла, и потому слово «демон» постепенно приобрело негативный оттенок – идею злого существа в противовес доброте бога. Это обнаружили христианские писатели, когда начали полемику с язычеством. Одна ветвь их аргументации вела к отождествлению языческих богов с демонами в дурном смысле, и незаметное изменение общепринятого значения слова придавало их доводам видимость правды. Ведь они легко могли показать, что не только у Гомера, но и в общем языке ранних язычников все боги часто назывались демонами – и потому, формально говоря, Климент и Татиан не утверждали о Зевсе или Аполлоне ничего хуже, чем уже было в язычестве. Однако аудитория Гомера или Софокла яростно отвергла бы такое утверждение, если бы оно было высказано в том смысле, который слово «демон» приобрело в эпоху этих христианских писателей и в их кругу.
В воображении автора «Трудов и дней» демоны занимают важное место и рассматриваются как существа, обладающие серьезной практической силой. Когда он упрекает окружающих его правителей за их вопиющую несправедливость и коррупцию, он напоминает им о бесчисленном количестве этих бессмертных слуг Зевса, которые постоянно находятся среди людей, и через которых кара богов обрушится даже на самых могущественных злодеев.[156] Его предположение, что демоны – не боги, а умершие люди золотого рода, позволило ему умножать их число бесконечно, не слишком принижая божественное достоинство.
Поскольку этот поэт настолько подчинился распространенным легендам, что включил героический род в последовательность, к которой он не принадлежит по сути, то под тем же влиянием он вставил в другую часть своей поэмы миф о Пандоре и Прометее,[157] как объяснение изначального распространения и нынешнего изобилия зла среди людей. Однако этот миф никак не согласуется с его пятиступенчатой шкалой отдельных родов и фактически представляет собой совершенно иную теорию, объясняющую ту же проблему – переход человечества из предполагаемого состояния прежнего счастья в состояние нынешних тягот и страданий. Такое противоречие не является достаточным основанием для сомнений в подлинности любого из отрывков, поскольку обе истории, хоть и противоречат друг другу, согласуются с центральной идеей, владеющей умом автора – назидательным и недовольным восприятием настоящего.
То, что такова была его цель, видно не только из общего настроя поэмы, но и из примечательного факта, что его собственная личность, его приключения, родственники и страдания занимают в ней видное место. И это введение собственного [стр. 72] «я» придает ей особый интерес. Отец Гесиода переехал из эолийской Киммы в надежде улучшить свое положение и поселился в Аскре в Беотии, у подножия горы Геликон. После его смерти два его сына разделили семейное наследство, но Гесиод горько жалуется, что его брат Перс обманул его и подал на него в суд, добившись несправедливого решения через подкупленных судей. Он также упрекает брата за предпочтение судебным тяжбам и бесполезной суете агоры в то время, когда тот должен был трудиться в поле ради пропитания. Аскра и вправду была жалким местом, неприятным и летом, и зимой. Гесиод никогда не пересекал море, кроме одного раза – из Авлиды на Эвбею, куда он отправился на погребальные игры Амфидаманта, правителя Халкиды. Там он исполнил гимн и получил в награду треножник, который посвятил музам на Геликоне.[158]
Эти подробности, сколь бы скудными они ни были, обладают особой ценностью как самые ранние достоверные сведения о деяниях и страданиях реального греческого лица. Нет никаких заслуживающих доверия внешних свидетельств о времени создания «Трудов и дней»: Геродот относит Гесиода и Гомера к одной эпохе, за четыреста лет до своего времени, но есть и другие мнения – одни помещают Гесиода раньше Гомера, другие позже. Обращаясь к внутренним свидетельствам, можно заметить, что общий дух, тон и цель поэмы сильно отличаются от «Илиады» и «Одиссеи» и сходны с тем, что мы читаем о произведениях Архилоха и симонида Аморгского. Автор «Трудов и дней» – проповедник, а не сатирик, но при этом в нем заметно то же преобладание настоящего и конкретного, та же склонность превращать музу в выразителя личных обид, то же использование эзоповых басен в качестве иллюстраций и тот же неблагоприятный взгляд на женский пол,[159] что и у двух упомянутых поэтов, – все это [стр. 73] резко контрастирует с гомеровским эпосом. Такая внутренняя аналогия, при отсутствии надежных свидетельств, – лучший ориентир для определения времени создания «Трудов и дней», которое следует отнести к периоду вскоре после 700 г. до н. э.
Стиль поэмы, впрочем, может служить доказательством того, что древний и единообразный гекзаметр, хотя и хорошо подходил для непрерывного эпического повествования или торжественных гимнов, был несколько монотонным, когда его использовали в полемических или назидательных целях. Когда поэты – в ту пору единственные создатели литературных произведений – впервые начали обращать свои мысли к острой полемике или поучениям, основанным на реальной жизни, стало ясно, что стиху требуется новый, более живой и энергичный метр. Так возникли элегический и ямбический стихи, появившиеся, по-видимому, одновременно и призванные заменить архаичный гекзаметр в коротких произведениях, вошедших тогда в моду.
Глава III. Легенда о Япетидах
Сыновья титана Япета, согласно гесиодовской «Теогонии», – Атлант, Менетий, Прометей и Эпиметей.[160] Из них только Атлант упоминается Гомером в «Одиссее», да и то не как сын Япета; сам же Япет назван в «Илиаде» среди обитателей Тартара наряду с Кроносом. Гомеровский Атлант «знает глуби всего моря и держит на себе высокие столбы, разделяющие небо и землю».[161]
[стр. 74] Подобно тому как гесиодовская теогония в целом значительно расширена по сравнению с гомеровской, так же обстоит дело и с семейством Япета и их разнообразными приключениями. Здесь Атлант описан не как хранитель столбов, разделяющих небо и землю, а как тот, кто сам осужден Зевсом держать небо на голове и руках;[162] тогда как свирепый Менетий низвергнут в Эреб за свою необузданную дерзость. Зато два оставшихся брата, Прометей и Эпиметей, – одни из самых интересных созданий греческой легенды, отличающиеся от всех прочих по нескольким причинам.
Во-первых, главная битва между Зевсом и титанами – это чистое противостояние силы: метание гор и молний, где победа остается за сильнейшим. Но противостояние Зевса и Прометея – это состязание хитрости и стратегии: победа действительно достается первому, но почести в борьбе принадлежат последнему. Во-вторых, Прометей и Эпиметей («думающий вперед» и «думающий после»[163]) – персонажи, отчеканенные на одном монетном дворе и одним ударом, являющиеся полной противоположностью друг другу. В-третьих, человечество здесь прямо выдвигается на первый план – не как активный участник борьбы, но как главный объект, чьи интересы затронуты, кто выигрывает или страдает от исхода. Прометей предстает в возвышенной роли защитника человеческого рода даже перед лицом превосходящего могущества Зевса.
В первоначальной, или гесиодовской, легенде Прометей не является создателем или формирователем человека; лишь позднейшие добавления наделяют его этой ролью.[164] Человеческий род предполагается уже существующим, а Прометей, член низвергнутого поколения титанов, выступает как его представитель и защитник. Выгодная сделка, которую он заключил с Зевсом в их пользу относительно раздела жертвенных животных, была описана в предыдущей главе. Зевс почувствовал, что его перехитрили, и разгневался. В своем недовольстве он лишил людей неоценимого блага – огня, так что род человеческий погиб бы, если бы Прометей не похитил огонь вопреки воле верховного правителя и не принес его людям в полом тростнике.[165]
Теперь Зевс был вдвойне разгневан и решил применить ещё более губительную хитрость. По его велению Гефест вылепил образ прекрасной девы; Афина одела её, Афродита и Хариты наделили её украшениями и обаянием, а Гермес вдохнул в неё ум собаки, лживый дух и коварные речи.[166] Вестник богов привёл эту «очаровательную напасть» к людям в то время, когда Прометея не было рядом.
Эпиметей получил от брата строгий наказ не принимать от Зевса никаких даров, но красота Пандоры (так звали новосозданную женщину) была неотразима. Её приняли среди людей, и с этого момента их покой и благополучие сменились страданиями всех видов.[167] До этого беды, угрожавшие человечеству, были заперты в бочке, находившейся у них же; но Пандора со злым умыслом сняла крышку, и тысячи зол и несчастий вырвались наружу, чтобы навеки обрушить свою разрушительную силу. Лишь Надежда осталась запертой внутри, не имея силы, как и прежде, – крышка была вновь запечатана прежде, чем она могла вырваться.
До этого случая (говорит предание) люди жили без болезней и страданий, но теперь и земля, и море полны бедствий, а недуги всех видов рыщут повсюду днём и ночью,[168] не оставляя человеку надежды на избавление.
[стр. 76] В «Теогонии» изложена эта легенда с некоторыми отличиями – там полностью опущена роль Эпиметея, а также бочка с бедствиями. Пандора губит людей просто как мать и олицетворение женского пола.[169] Эти различия полезны, так как позволяют отделить суть истории от второстепенных деталей.
«Так (говорит поэт в конце своего повествования) невозможно избежать воли Зевса».[170] Его миф, связывающий бедственное положение людей с враждебностью верховного бога, показывает, во-первых, чем вызвана эта враждебность, а во-вторых, какими средствами были достигнуты её губительные последствия. Человеческий род – не творение, но подопечные Прометея, одного из старших или низвергнутых титанов. Когда Зевс обретает власть, люди, как и все прочие, подчиняются ему и вынуждены договариваться о том, какую долю поклонения и служения ему отдавать.
Благодаря хитрости их заступника Прометея, Зевс[стр. 77] был обманут при разделе жертвы так, что получил крайне невыгодную долю, что вызвало его гнев, и он попытался лишить людей огня. Однако этот замысел был сорван кражей Прометея. Но вторая попытка удалась: он сам обманул недальновидного Эпиметея, заставив его принять дар (несмотря на строгий запрет Прометея), что привело к крушению всего человеческого счастья.
Эта легенда выросла из двух представлений: о взаимоотношениях богов с людьми и о роли женщин по отношению к мужчинам. Нынешние боги враждебны к человеку, но старые боги, с которыми изначально была связана его судьба, были гораздо добрее – и самый способный из них выступает неутомимым защитником человечества. Однако его чрезмерная хитрость в итоге губит тех, кого он защищал. Он обманывает Зевса при разделе жертвы, провоцируя ответный удар, от которого не всегда может уберечь: в его отсутствие возмездие свершается благодаря ловушке, расставленной для Эпиметея и добровольно им принятой.
Таким образом, хотя Гесиод приписывает бедственное положение людей злобе Зевса, его благочестие предлагает два оправдания: человечество первым обмануло Зевса, лишив его законной доли жертвы, и, более того, само согласилось на свою погибель.
Таковы представления о взаимоотношениях богов и людей, ставшие одной из основ этой легенды. Другая её составляющая – убеждённость в огромном вреде, который приносят мужчинам женщины, хотя они и не могут без них обойтись, – неоднократно подчёркивалась многими греческими поэтами, от Симонида Аморгского и Фокилида до печально известного женоненавистника Еврипида.
Но беды, исходящие от женщины, какими бы великими они ни были, не коснулись самого Прометея. Для него, дерзкого защитника, осмелившегося «соперничать в мудрости»[171] с Зевсом, была уготована иная кара. Скованный тяжёлыми цепями, он оставался прикованным к скале много поколений: каждый день орёл пожирал его печень, а каждую ночь она отрастала вновь для новых мучений.[стр. 78] В конце концов Зевс, желая возвеличить своего любимого сына Геракла, позволил ему убить орла и освободить узника.[172]
Таков миф о Прометее в изложении Гесиода – его древнейшая известная версия. На его основе Эсхил создал возвышенную трагедию «Прикованный Прометей», а также, по меньшей мере, ещё одну (ныне утраченную).[173] Эсхил внёс несколько важных изменений: он описывает человеческий род не как утративший былую безмятежность, а как изначально слабый и жалкий. Он опускает и первый обман Прометея при разделе жертвы, и создание Пандоры – две наиболее яркие детали гесиодовской версии, зато подробно развивает тему похищения огня,[174] которую Гесиод лишь слегка затрагивает.
Если он и пожертвовал простотой древнего сказания, то с лихвой возместил это, придав ему идеальное величие, глубину мысли, трогательный пафос и намёки на сложные отношения между богами и людьми, далеко превосходящие уровень Гесиода – и сделавшие его трагедию самой впечатляющей (хотя и не самой совершенной в художественном плане) из всех греческих драм.
У Эсхила Прометей предстаёт не только как герой-защитник и страдалец за человеческий род, но и как мудрый наставник, подаривший людям все искусства, ремёсла и блага цивилизации, среди которых огонь – лишь одно.[175] Всё это он делает вопреки воле Зевса, который, получив власть, хотел уничтожить человечество и создать новый род.[176]
Более того, Эсхил добавляет новые детали в отношения Прометея и Зевса. В начале войны с титанами Прометей тщетно пытался убедить их действовать разумно; но, видя их упрямство и неизбежность поражения, он перешёл на сторону Зевса. Его совет помог тому одержать победу – и теперь чудовищная неблагодарность и тирания Зевса проявляются в том, что он приковывает Прометея к скале лишь за то, что тот помешал истреблению людей и дал им средства к достойной жизни.[177]
Новый правитель, опьянённый победой, попирает все права и отвергает сочувствие и долг – как перед богами, так и перед людьми. Но провидец Прометей, даже в муках, знает, что придёт время, когда Зевс будет вынужден вновь обратиться к нему за помощью, чтобы избежать неминуемой угрозы. Благополучие людей теперь вне досягаемости Зевса – и Прометей гордо бросает ему вызов, торжествуя в своей победе,[178] несмотря на страшную цену, которую он платит.
Если у Эсхила Прометей сохраняет прежние черты, но обретает новую глубину, то и место его заточения теперь конкретизировано. У Гесиода нет указаний на локацию, но Эсхил помещает его в Скифии,[179] а греки в целом считали, что это Кавказ.
Эта вера была столь прочной, что римский полководец Помпей, находясь в Колхиде, специально совершил поход со своим спутником, греческим писателем Феофаном, чтобы увидеть место, где был прикован Прометей.[180]
Глава IV. Героические легенды. – Родословная Аргоса.
Кратко перечислив богов Греции и их основные атрибуты, как они описаны в легендах, мы переходим к тем родословным, которые связывали их с историческими личностями.
В ретроспективной вере греков понятия поклонения и происхождения сливались воедино. Каждое объединение людей, большое или малое, ощущавшее свою текущую общность, возводило эту общность к некоему общему прародителю. Таким прародителем был либо общий бог, которому они поклонялись, либо полубожественное существо, тесно связанное с ним. Чувство общности требовало непрерывной родословной, связывающей их с этим почитаемым источником существования, за пределы которого они не заглядывали. Ряд имён, выстроенных в порядке отцовства или братства, вместе с некоторым количеством семейных или личных приключений, приписанных отдельным персонажам, составляли доисторическое прошлое, через которое грек обращал свой взор к богам.
Имена в этих родословных во многом были родовыми или местными названиями, знакомыми народу – реки, горы, источники, озёра, деревни, демы и т. д., – олицетворёнными в виде персонажей и представленными как действующие или страдающие. Кроме того, их называли царями или вождями, но существование подчинённого им народа подразумевалось скорее молчаливо, чем явно, поскольку их собственные подвиги или семейные события составляли бо́льшую часть повествования. Таким образом, родословная одновременно удовлетворяла страсть греков к романтическим приключениям и их потребность в непрерывной линии происхождения, связывающей их с богами. Эпоним, от которого община получала своё имя, иногда был рождённым сыном местного бога, а иногда – автохтоном, появившимся из земли, которая сама по себе также обожествлялась.
Уже из одного описания этих родословных видно, что они включали как человеческие, исторические элементы, так и божественные, внеисторические. И если бы мы могли определить время, когда та или иная родословная была впервые составлена, то смогли бы убедиться, что люди, представленные в ней как современные, вместе со своими отцами и дедами, были реальными личностями из плоти и крови. Но этот момент редко можно установить; более того, даже если бы это было возможно, нам пришлось бы сразу отбросить его, если мы хотим взглянуть на родословную с точки зрения греков. Для них все её члены были одинаково реальны, но боги и герои в начале в каком-то смысле были наиболее реальными – по крайней мере, они были самыми почитаемыми и незаменимыми. Ценность родословной заключалась не в её протяжённости, а в её непрерывности; не (как в понимании современной аристократии) в возможности перечислить длинную череду человеческих отцов и дедов, а в ощущении родовой связи с изначальным богом. Длина же ряда объясняется скорее смирением, поскольку тот, кто с удовлетворением верил, что произошёл от бога в пятнадцатом поколении, счёл бы преступной дерзостью утверждать, что бог был его отцом или дедом.
Представляя читателю те родословные, которые составляют предполагаемую первобытную историю Эллады, я не претендую на то, чтобы отделить реальные, исторические имена от вымышленных – отчасти потому, что у меня нет доказательств для проведения такой границы, а отчасти потому, что, попытавшись это сделать, я полностью отступил бы от подлинного греческого взгляда.
Более того, невозможно сделать ничего, кроме как представить определённый выбор наиболее распространённых и интересных родословных, поскольку их общее число, укоренившееся в греческой вере, не поддаётся исчислению. Как правило, у каждого дема, каждой генса, каждой группы людей, привыкших к совместным действиям – религиозным или политическим, – была своя родословная. Маленькие и незначительные демы, на которые делилась Аттика, имели своих родовых богов и героев в той же мере, как и великие Афины. Даже среди деревень Фокиды, которые Павсаний едва ли решался назвать городами, не было недостатка в легендарных древностях. И важно помнить, читая легендарные родословные Аргоса, Спарты или Фив, что это лишь примеры среди обширного множества, все совершенно аналогичные и все отражающие религиозно-патриотический взгляд какой-то части эллинского мира. Они не более являются предметом исторического предания, чем любая из тысячи других легендарных родословных, которые люди любили вспоминать на периодических праздниках своей генса, дема или деревни.
С этими краткими предварительными замечаниями я перехожу к рассмотрению самых известных героических родословных Греции, и начну с родословной Аргоса.
Самое раннее имя в аргосской древности – это Инах, сын Океана и Тефиды, давший имя реке, протекающей у стен города. Согласно хронологическим расчётам тех, кто считал мифические родословные substantive history и отводил определённое количество лет на каждое поколение, правление Инаха относилось к 1986 году до н. э., то есть примерно за 1100 лет до начала зарегистрированных Олимпиад.[181] Сыновьями Инаха были Фороне́й и Эгиале́й, хотя оба иногда считались автохтонными (первозданными) людьми – первый в землях Аргоса, второй в Сикио́не. Эгиалей дал своё имя северо-западной области Пелопоннеса на южном побережье Коринфского залива.[182] Имя Форонея пользовалось большой славой в аргосских мифических родословных и дало название древней поэме «Форони́да», где он назван «отцом смертных людей».[183] Говорили, что он дал человечеству, до него жившему разрозненно, первые понятия и навыки общественной жизни и даже знание огня: его власть простиралась на весь Пелопоннес. Его могила в Аргосе, а также место, называемое Форони́йским городом, где он основал первое поселение людей, показывали ещё во времена Павсания.[184]
Потомками Форонея от нимфы Теледи́ки были А́пис и Нио́ба. Апис, суровый правитель, был убит Телксио́ном и Те́льхином, дав Пелопоннесу имя Апи́я.[185] Ему наследовал Аргос, сын его сестры Ниобы от бога Зевса. От этого правителя Пелопоннес получил название Аргос. От своей жены Эва́дны, дочери Стримо́на,[186] он имел четырёх сыновей: Экба́са, Пе́ира, Эпида́вра и Криа́са. Экбасу наследовал его сын Аге́нор, а тому – его сын Аргос Пано́пт («Всевидящий») – могущественный царь, у которого, как говорили, были глаза по всему телу и который избавил Пелопоннес от нескольких чудовищ и диких зверей, опустошавших его.[187] Акусила́й и Эсхил считали этого Аргоса порождением земли, тогда как Фереки́д называл его сыном Аресто́ра. Иа́с был сыном Аргоса Пано́пта от Исме́ны, дочери Асо́па. По версии авторов, которых предпочитают Аполлодор и Павсаний, знаменитая Ио́ была его дочерью; однако в гесиодовском эпосе (как и у Акусилая) она названа дочерью Пе́ира, а Эсхил и хронист Кастор утверждали, что её отцом был древний царь Инах.[188]