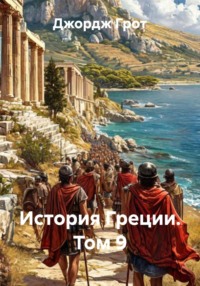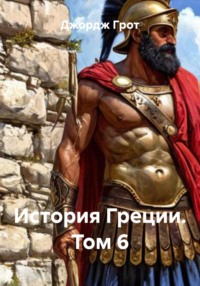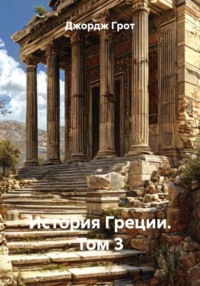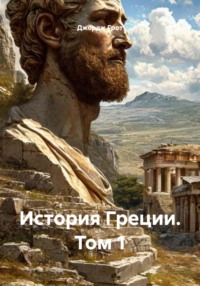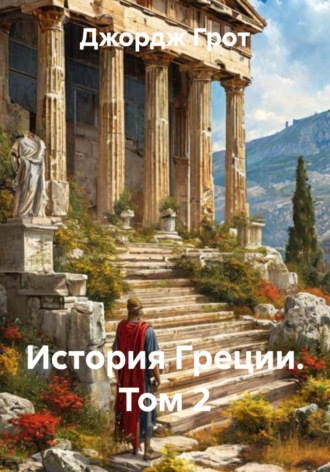
Полная версия
История Греции. Том 2
Гомеровское общество в отношении этого основного этапа развития человечества находится на одном уровне с обществом германских племен, описанным Тацитом. Но дальнейший ход греческого законодательства принимает совершенно иное направление, чем германские кодексы: примитивное и признанное право частной мести (если только оно не откупается денежной платой), вместо того чтобы получить практическое применение, вытесняется более всеобъемлющими представлениями об общественной несправедливости, требующей государственного вмешательства, или религиозными опасениями относительно посмертного гнева убитого человека. В исторических Афинах это право частной мести было сведено на нет и вытеснено из поля зрения еще в драконовом законодательстве [159] и в конце концов ограничено несколькими исключительными и особыми случаями; в то время как убийца стал рассматриваться, во-первых, как согрешивший против богов, во-вторых, как глубоко ранивший общество, и, таким образом, одновременно как требующий отпущения грехов и заслуживающий наказания. По первому из этих двух оснований ему запрещалось появляться на агоре и во всех святых местах, а также выполнять общественные функции, даже если он еще не был судим и просто подозревался; ведь если этого не сделать, гнев богов проявится в неурожае и других бедствиях страны. На втором основании его судят перед советом Арейопага и, если признают виновным, приговаривают к смерти, а может быть, к лишению прав и изгнанию. 160] Идея умилостивительной выплаты родственникам умершего перестала признаваться: защита общества диктует, а сила общества налагает меру наказания, призванную удержать на будущее.
3. Общество легендарной Греции включает в себя, помимо вождей, общую массу свободных людей (λαοί), среди которых выделяются некоторые профессиональные люди, такие как плотник, кузнец, кожевник, пиявка, пророк, бард и рыбак. [161] У нас нет возможности оценить их состояние. Хотя участки пахотной земли были выделены в особую собственность отдельным лицам, а границы тщательно обозначены и ревностно охранялись [162], все же большая часть площади была отведена под пастбища. Скот составлял и главную статью расходов богатого человека, и главное средство платежа, и общую причину ссор, – хлеб и мясо в больших количествах были постоянной пищей каждого. 163] Имения владельцев обрабатывались, а за их скотом ухаживали, в основном, купленные рабы, но в некоторой степени и бедные свободные люди, называемые тэтами, работавшие по найму и в течение определенного времени. Главные рабы, которым поручался уход за большими стадами волов, свиней или коз, были людьми, заслуживающими доверия, поскольку их обязанности позволяли им находиться вне поля зрения хозяина. [У них в подчинении были и другие рабы, с которыми, судя по всему, хорошо обращались: глубокая и непоколебимая привязанность свинопаса Эвмея и нетопыря Филетия к семье и делам отсутствующего Одиссея – один из самых интересных моментов в древнем эпосе. Рабство было бедствием, которое в тот незащищенный период могло постигнуть любого: вождь, совершивший вольный поход, в случае успеха приводил с собой многочисленный отряд рабов, сколько мог захватить, [165] а в случае неудачи, скорее всего, сам становился рабом: так что раб часто по рождению был равен своему господину: Евмей сам был сыном вождя, в детстве вывезенным своей кормилицей и проданным финикийскими похитителями Лаэртесу. Раб с таким характером, если он хорошо себя вел, часто мог рассчитывать на то, что его хозяин даст ему право на владение и поместит в независимое владение [166].
В целом, рабство легендарной Греции не выглядит как существующее в особо суровой форме, особенно если учесть, что все классы общества тогда были на одном уровне по вкусам, чувствам и образованию. [167] В отсутствие правовой защиты или эффективной социальной санкции, вероятно, положение раба у среднего хозяина могло быть таким же хорошим, как и у свободного фета. Среди рабов, чья участь, по-видимому, была наиболее плачевной, были женщины – более многочисленные, чем мужчины, и выполнявшие основную работу по внутренней отделке дома. С ними не только обращались более жестоко, чем с мужчинами, но и поручали им самый тяжелый и изнурительный труд, которого требовало хозяйство греческого вождя: они приносили воду из источника и вручную вращали домашние мельницы, которые мололи большое количество муки, потребляемой его семьей. [168] Эта угнетающая работа обычно выполнялась женщинами-рабынями как в исторической, так и в легендарной Греции. [Прядение и ткачество были постоянным занятием женщин, свободных или рабынь, любого ранга и положения: вся одежда, которую носили мужчины и женщины, изготавливалась дома, и Елена, как и Пенелопа, искусна и усердна в этом занятии. [170] Дочери Келеоса в Элевсисе ходят за водой к колодцу со своими тазами, а Наусикаа, дочь Алкиноса, [171] вместе со своими рабынями стирает свои одежды в реке. Если мы вынуждены отметить свирепость и ненадежность раннего общества, мы можем в то же время с удовольствием отметить характерную простоту его нравов: Ребекка, Рахиль и дочери Иофора в раннем Моисеевом повествовании, а также жена туземного македонского вождя (с которым теменид Пердикка, предок Филиппа и Александра, впервые поступил на службу, уйдя из Аргоса), пекущая свои лепешки на очаге, [172] демонстрируют в этом отношении параллель с гомеровскими картинами.
Мы не получили никаких сведений ни о простых свободных людях в целом, ни об их особом сословии, называемом фетами. Эти последние, нанятые для особых работ или во время сбора урожая и других напряженных сезонов полевых работ, по-видимому, отдавали свой труд в обмен на питание и одежду: они упоминаются в одном ряду с рабами [173] и были (как уже было замечено), вероятно, в целом не в лучшем положении. Положение бедного свободного человека в те времена, не имеющего собственного участка земли, перебивающегося с одной временной работы на другую, не имеющего ни влиятельной семьи, ни общественного авторитета, на который можно было бы опереться в поисках защиты, должно было быть достаточно жалким. Когда Эвмей тешил себя надеждой, что его хозяева отпустят его на волю, он в то же время думал, что они дадут ему жену, дом и участок земли рядом с собой; [174] без этих сопутствующих преимуществ простое отпущение на волю, возможно, не улучшило бы его положения. Быть фетом в услужении у очень бедного крестьянина Ахилл считает максимумом человеческих лишений: такой человек не мог дать своему фету такой же обильной пищи, хорошей обуви и одежды, как богатый вождь Эвримах, и при этом требовал более тяжелого труда. [175] Вероятно, именно среди таких мелких жильцов, которые не могли заплатить за рабов и были рады сэкономить на содержании, когда не нуждались в услугах, находили работу феты: хотя мы можем заключить, что храбрые и сильные среди этих бедных свободных людей предпочитали сопровождать какого-нибудь вождя и жить за счет награбленного. [Точный Гесиод советует своему фермеру, чью работу выполняют в основном рабы, нанять и содержать тхета в летнее время, но уволить его, как только урожай будет полностью собран, а затем взять в свой дом на зиму женщину «без ребенка», которая, конечно, будет более полезна, чем тхет, для занятий в помещении в этот сезон [177].
В таком состоянии общества, как то, которое мы описываем, греческая торговля была неизбежно пустяковой и ограниченной. Гомеровские поэмы свидетельствуют либо о полном невежестве, либо о большой расплывчатости представлений обо всем, что находится за пределами побережья Греции и Малой Азии, а также островов между ними или примыкающих к ним. Предполагается, что Ливия и Египет настолько далеки, что известны лишь по именам и слухам: действительно, когда был основан город Кирена, через полтора века после первой Олимпиады, трудно было найти где-либо греческого мореплавателя, который когда-либо посещал побережье Ливии или мог служить проводником для колонистов. [178] Упоминание сикелов в «Одиссее» [179] заставляет нас сделать вывод, что Коркира – это Коркион. 102] заключить, что Коркира, Италия и Сицилия не были полностью неизвестны поэту: среди мореплавателей греков знание последней подразумевало знание двух первых, поскольку привычный путь даже хорошо оснащенной афинской триремы во время Пелопоннесской войны от Пелопоннеса до Сицилии пролегал через Коркиру и Тарентумский залив. Первыми греками, исследовавшими Адриатическое или Тирренское море, были фокейцы, жившие много позже. [180] О Эвксинском море Гомер ничего не знает, как правило, представляя нам названия далеких регионов только в связи с романтическими или чудовищными аккомпанементами. Критяне, а еще больше тафийцы (которые, как предполагается, занимали западные острова у побережья Акарнании), упоминаются как искусные мореплаватели, а тафиец Ментес утверждает, что перевозит железо в Темезу, чтобы там обменять его на медь; [181] но и тафийцы, и критяне – скорее корсары, чем торговцы. [182] Сильное чувство опасности моря, выраженное поэтом Гесиодом, и несовершенная конструкция раннего греческого корабля, засвидетельствованная Фукидидом (который указывает на более позднюю дату усовершенствованного кораблестроения, преобладавшего в его время), свидетельствуют об узком диапазоне морского предпринимательства. [183]
Таково было состояние греков как торговцев в то время, когда Вавилон сочетал многолюдное и трудолюбивое население с обширной торговлей, и когда финикийские торговые корабли посещали в одном направлении южное побережье Аравии, возможно, даже остров Цейлон, а в другом – Британские острова.
Финикиец, родственник древнего еврея, демонстрирует тип характера, принадлежащий последнему, – с большей предприимчивостью и изобретательностью, с меньшей религиозной исключительностью, но все же отличающийся от характера греков и даже антипатичный им. В гомеровских поэмах он предстает как еврей средневековья, хитрый торговец, использующий в корыстных целях насилие и хитрость других, – принося им украшения, предметы декора, самые лучшие и яркие изделия ткацкого станка, золото, серебро, электрум, слоновую кость, олово и т. д, в обмен на которые он получал землю, шкуры, шерсть и рабов – единственные товары, которые мог предложить даже богатый греческий вождь тех ранних времен, – готовый в то же время к нечестной наживе любым способом, который случай может подбросить ему на пути. [184] Однако он действительно торговец, не предпринимающий экспедиций с преднамеренной целью внезапности и грабежа, и в этом отношении отличается от тирренского, критского или тафийского пирата. Олово, слоновая кость и электрум, о которых говорится в гомеровских поэмах, были плодами торговли финикийцев как с Западом, так и с Востоком [185].
[p. 104] Фукидид говорит нам, что финикийцы и карийцы в очень ранние времена занимали многие острова Эгейского моря, и мы знаем, что по поразительным остаткам их горных работ, которые Геродот сам видел в Тасусе, у берегов Фракии, что они когда-то добывали золото в горах этого острова, – правда, в очень далекие времена, поскольку их занятия должны были быть прекращены до поселения поэта Архилоха. [Однако лишь немногие из островов Эгейского моря были богаты столь ценными продуктами, и обычно финикийцы занимали острова, за исключением тех, где был прилегающий материк, с которым можно было вести торговлю. Движение этих активных мореплавателей не требовало постоянного поселения, но в качестве случайных гостей они были удобны, позволяя греческому вождю обратить в бегство своих пленников, избавиться от рабов или бездомных фетов, которые доставляли беспокойство, и снабдить себя металлами, как драгоценными, так и полезными. [Залы Алки [p. 105] нуса и Менелая сверкают золотом, медью и электрумом; большие запасы еще незанятого металла – золота, меди и железа – хранятся в сокровищницах Одиссея и других вождей. [188] Монетные деньги неизвестны гомеровскому веку, торговля ведется по бартеру. Что касается металлов, то следует отметить, что гомеровские описания повсеместно предполагают использование меди, а не железа, для изготовления оружия, как наступательного, так и оборонительного. Каким образом медь закалялась и упрочнялась, чтобы служить целям воина, мы не знаем; [189] но использование железа для этих целей относится к более позднему периоду, хотя в «Трудах и днях» Гесиода предполагается, что это изменение уже было введено. [190]
[p. 106] Способ ведения боя гомеровскими героями не менее отличается от исторических времен, чем материал, из которого было сделано их оружие. Гоплиты, или тяжеловооруженная пехота исторической Греции, поддерживали тесный порядок и хорошо одетый строй, нападая на врага с копьями, выставленными на равном расстоянии, и вступая таким образом в ближний бой, не нарушая своего строя: существовали специальные войска, лучники, пращники и т. д., вооруженные ракетами, но у гоплитов не было оружия, которое можно было бы использовать подобным образом. Герои «Илиады» и «Одиссеи», напротив, обычно используют копье в качестве ракеты, которую они запускают с огромной силой: каждый из них сидит в своей боевой колеснице, запряженной двумя лошадьми и рассчитанной на воина и его возницу; в качестве последнего иногда соглашается выступать друг или товарищ. Продвигаясь на колеснице на полной скорости, впереди своих солдат, он бросает копье в противника: иногда, правда, он сражается пешком и врукопашную, но колесница обычно находится рядом, чтобы принять его, если он захочет, или обеспечить его отступление. Масса греков и троянцев, выходящих вперед для атаки, без какого-либо регулярного шага или равномерной линии, атакует таким же образом, бросая копья. Каждый вождь носит длинный меч и короткий кинжал, кроме двух копий, которые он пускает вперед, – копье также используется, если есть возможность, как оружие для удара. Каждый мужчина защищен щитом, шлемом, нагрудником и поножами, но доспехи вождей значительно превосходят доспехи простых людей, а сами они сильнее и искуснее в обращении с оружием. Есть несколько лучников, как редкое исключение, но в целом снаряжение и порядок действий такие, как описано здесь.
Подобный свободный строй, увековеченный в «Илиаде», знаком каждому; и контраст, который он представляет, с теми несгибаемыми рядами и тем неотразимым одновременным натиском, который снес персидскую толпу при Платее и Кунаксе, [191] является такой иллюстрацией [p. 107], которая убедительно показывает общее различие между героической и исторической Грецией. Если в первой несколько великолепных фигур выступают вперед, выделяясь на фоне остальных, представляя собой неорганизованную и неэффективную массу, то во второй эти единицы объединены в систему, в которой каждый человек, офицер и солдат, имеет свое место и долг, а победа, когда она одержана, является общим делом всех. Преобладание индивидуальной доблести действительно существенно сокращено, если не полностью исключено, – ни один человек не может сделать больше, чем сохранить свое место в строю: [192] но, с другой стороны, грандиозные цели, агрессивные или оборонительные, ради которых только и берут в руки оружие, становятся более уверенными и легкими, а дальновидные комбинации генерала впервые становятся осуществимыми, когда у него есть дисциплинированное тело людей, которые должны ему подчиняться. Прослеживая картину гражданского общества, мы должны отметить аналогичный переход: от Геракла, Фесея, Ясона, Ахилла к Солону, Пифагору и Периклу – от «пастыря своего народа» (если воспользоваться фразой, в которой Гомер изобразил хорошую сторону героического царя) к законодателю, который вводит и государственному деятелю, поддерживающему заранее согласованную систему, по которой граждане соглашаются связывать себя обязательствами. Если не всегда можно найти выдающийся индивидуальный талант, то все сообщество обучается так, чтобы быть в состоянии поддерживать свой курс при низших лидерах; права и обязанности каждого гражданина предопределены в социальном порядке, в соответствии с принципами, более или менее мудро установленными. Контраст схож, а переход одинаково примечателен как в гражданской, так и в военной картине. Фактически, военная организация греческих республик является элементом величайшей важности в отношении той выдающейся роли, которую они сыграли в человеческих делах, [p. 108] – их превосходство над другими современными нациями в этом отношении едва ли менее поразительно, чем во многих других, как мы будем иметь возможность увидеть на последующем этапе этой истории.
Даже на самом передовом этапе своей тактики греки мало что могли сделать против города, обнесенного стеной, а героическое оружие и арсенал были еще менее доступны для такой задачи, как осада. Укрепления – особенность эпохи, заслуживающая особого внимания. Как нам рассказывают, было время, когда примитивные греческие города или деревни были надежно защищены не стенами, а просто возвышенными и труднодоступными местами. Они строились не прямо на берегу или вблизи удобного места для высадки, а на некотором расстоянии вглубь страны, на скале или возвышенности, к которой нельзя было подойти незаметно или взобраться без труда. В то время это считалось достаточным для защиты от пиратов или мародеров: но по мере того, как состояние общества становилось уверенным, – когда вероятность внезапного нападения сравнительно уменьшалась, а промышленность росла, – эти непривлекательные жилища менялись на более удобные места на равнине или склоне под ними; или часть последних была заключена в более широкие границы и присоединена к первоначальному фундаменту, который таким образом становился Акрополем нового города. Феб, Афины, Аргос и т. д. принадлежали к последнему классу городов; но во многих частях Греции были заброшенные места на вершинах холмов, сохранившие даже в исторические времена следы прежнего обитания, а некоторые из них все еще носили название старых городов. Среди горных районов Крте, в Эгине и на Родосе, в частях горы Ида и Парнаса можно увидеть подобные остатки [193] [p. 109].
Вероятно, в таких примитивных деревнях на холмах сплошной круг стены вряд ли был бы необходим в качестве дополнительного средства обороны, и часто это было бы очень трудно из-за изрезанности местности. Но Фукидид представляет самых ранних греков – тех, кого он считает предшественниками Троянской войны, – как живущих повсеместно в неукрепленных деревнях, главным образом из-за их бедности, грубости и полного безразличия к завтрашнему дню. Угнетенные и удерживаемые друг от друга вечным страхом, они еще не прониклись чувством постоянного места жительства: они не желали даже сажать фруктовые деревья из-за неопределенности сбора плодов, и всегда были готовы покинуть их, потому что оставаться было невыгодно, а пропитание можно было получить где угодно. Он сравнивает их с горцами Этолии и Озолийского Локри в свое время, которые жили в своих неукрепленных горных деревнях, практически не общаясь друг с другом, всегда были вооружены и сражались, питаясь продуктами своего скота и леса, [194] – одетые в невыделанные шкуры и ели сырое мясо.
Картина, которую дает Фукидид об этих очень ранних и незаписанных временах, может быть принята только как предположение, – предположение, действительно, государственного деятеля и философа, – обобщенное также, частично, на основе многих конкретных примеров раздоров и изгнания вождей, которые он нашел в старых легендарных поэмах. Гомеровские поэмы, однако, представляют нам иную картину. Они признают обнесенные стенами города, постоянные жилища, сильные местные привязанности, наследственную индивидуальную собственность на землю, посаженные и тщательно возделываемые виноградники, установленные храмы богов и великолепные дворцы вождей. [195] Описание Фукидида относится к более низкой форме общества и имеет больше сходства с той, которую сам поэт считает древней и варварской, – с дикими циклопами, живущими на вершинах гор, в полых пещерах, без плуга, без культуры винограда и фруктов, без искусств и инструментов, – или к первобытному поселению Дардана, сына Зевса, на возвышенности Иды, в то время как его потомки и преемники должны были основать священный Илиум на равнине. [196] Илиум или Троя представляет собой совершенство гомеровского общества. Это освященное место, где находятся храмы богов, а также дворец Приама, и окруженное стенами, которые являются творением богов; в то время как предшествующая форма более грубого общества, на которую поэт бросает беглый взгляд, является параллелью той, которую теория Фукидида приписывает его собственным ранним полуварварским предкам.
Таким образом, обнесенные стенами города служат одним из доказательств того, что значительная часть населения Греции даже в гомеровские времена достигла уровня выше, чем у этолийцев и локрийцев времен Фукидида. Останки Микен и Тирина демонстрируют массивный и циклопический стиль архитектуры, использовавшийся в те ранние времена: но мы можем заметить, что, в то время как современные наблюдатели склонны считать останки первого очень внушительными и свидетельствующими о великой княжеской семье, Фукидид, напротив, говорит о нем как о небольшом месте и старается [p. 111] чтобы избежать вывода, который можно было бы сделать из его незначительных размеров, в опровержение величия Агамемнона. [197] Такие укрепления обеспечивали средства защиты, несравненно превосходящие средства нападения. Ведь даже в исторической Греции после изобретения таранных орудий ни один город нельзя было взять иначе, как врасплох или блокадой, или разорив окружающую страну и лишив таким образом жителей средств к существованию. И в двух великих осадах легендарного времени, Трои и Феба, первая была захвачена с помощью стратагемы деревянного коня, а вторую эвакуировали ее граждане, по предупреждению богов, после поражения в поле.
Это решительное превосходство средств защиты над средствами нападения в грубые века было одной из главных причин, способствовавших как росту гражданской жизни, так и общему движению человеческого совершенствования. Это позволило прогрессивным частям человечества не только сохранить свои приобретения против хищнических инстинктов более грубых и бедных и преодолеть трудности зарождающейся организации, но и в конечном итоге, когда их организация стала зрелой, приобрести преобладание и поддерживать его до тех пор, пока их собственные дисциплинированные привычки частично не перейдут к их врагам. Важная истина, изложенная здесь, иллюстрируется не только историей Древней Греции, но и историей современной Европы в Средние века. Гомеровский вождь, сочетающий высший ранг с высшей силой и готовый грабить при каждом удобном случае, очень напоминает феодального барона Средневековья, но обстоятельства легче втягивают его в городскую жизнь и превращают независимого властителя в члена правящей аристократии. [198] Морское сообщение продолжало подвергаться опасности со стороны пиратов еще долго после того, как оно стало достаточно безопасным на суше: «мокрые пути» всегда были последним прибежищем беззакония и насилия, и Эгейское море, в частности, во все времена страдало от этого бедствия больше, чем другие воды.
Агрессии такого рода, как здесь описаны, были, конечно, наиболее многочисленны в те ранние времена, когда Эгейское море еще не было эллинским и когда многие Киклады были заняты не греками, а карийцами, возможно, финикийцами: количество карийских гробниц, обнаруженных на священном острове [p. 113] Делус, кажется, подтверждает такую оккупацию как исторический факт. Согласно легендарному рассказу, поддерживаемому как Геродотом, так и Фукидидом, именно критянин Минос покорил эти острова и установил на них власть своих сыновей, либо изгнав карийцев, либо обратив их в рабство и дань. [200] Фукидид предполагает, что он, конечно, должен был положить конец пиратству, чтобы можно было спокойно перечислять дань, как афиняне во времена своей гегемонии. [201] О легендарной талассократии Миноса я уже говорил в другом месте: [202] Здесь достаточно повторить, что в гомеровских поэмах (которые в нынешней хронологии давно следуют за Миносом) пиратство встречается часто и пользуется почетом, о чем нам красноречиво говорит сам Фукидид, отмечая, кроме того, что суда тех ранних времен были лишь полупалубными, построенными и оснащенными по пиратской моде, [203] на что мореплаватели его времени смотрели с презрением. Улучшенное и расширенное кораблестроение, а также трирема, или корабль с тремя банками весел, распространенный для военных целей во время персидского нашествия, началось только с ростом мастерства, активности и значимости коринфян, спустя три четверти века после первой Олимпиады. [204] Коринф даже в гомеровских поэмах отличается эпитетом «богатый», который он приобрел главным образом благодаря своему замечательному положению на перешейке и двум гаваням – Лехей и Кенхрей, одна на Коринфском, другая на Сароническом заливе. Таким образом, он обеспечивал удобное сообщение между Эпиром и Италией с одной стороны и Эгейским морем с другой, не навязывая неумелому и робкому мореплавателю тех дней необходимость обходить Пелопоннес.
О широте греческих перевозок и судоходства свидетельствует сравнение гомеровских и гесиодовских поэм в отношении знания мест и стран – последние, вероятно, относятся к периоду между 740 и 640 гг. до н. э. У Гомера показано знакомство (точность этого знакомства, однако, преувеличена Страбоном и другими дружественными критиками) с континентальной Грецией и соседними островами, с Кртетом и главными островами Эгейского моря, с Фракией, Троадой, Геллеспонтом и Малой Азией между Пафлагонией на север и Ликией на юг. Сикелы упоминаются в «Одиссее», а Сикания – в последней книге этой поэмы, но ничего не говорит о том, что они знают Италию или другие страны западного мира. Ливия, Египет и Финикия известны по именам и смутным слухам, но Нил упоминается только как «река Египта», а Эвксинское море вообще не упоминается. [В поэмах Гесиода, напротив, Нил, Истер, Фазис и Эридан названы по имени; [206] также упоминаются гора Итна и остров Ортигия, расположенные недалеко от Сиракуз, тирренцы и лигурийцы на западе и скифы на севере. [207] Действительно, в течение сорока лет после первой Олимпиады из Коринфа были основаны города Коркира и Сиракузы – первые из многочисленной и мощной серии колоний, которым суждено было придать новый характер как югу Италии, так и Сицилии.