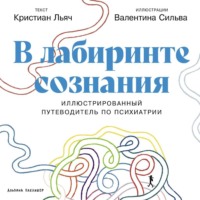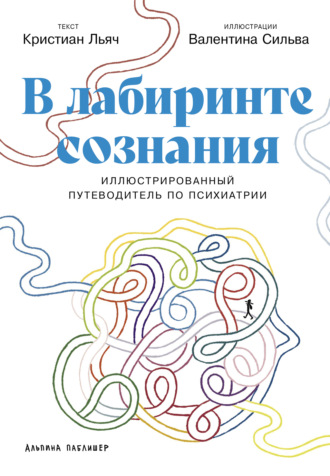
Полная версия
В лабиринте сознания: Иллюcтрированный путеводитель по психиатрии

Эта сумасшедшая история

История? Конечно! Думаю, лучше всего начать с нее по одной веской причине. К тому времени, когда мы начали осваивать профессию врача и принимать своих первых пациентов, у нас за плечами было уже столько часов, посвященных изучению мозга, что мы знали каждую его извилину вдоль и поперек. Однако, открыв дверь своего кабинета, мы с изумлением обнаружили перед собой… не более или менее организованную массу нейронов, а человека с целым набором жалоб и запросов (и это в лучшем случае).
Обучаясь в ординатуре[12], мы узнали, что, помимо непосредственного применения знаний о мозге, следует адаптировать их к целому ряду «реальных» условий, чтобы предложить свою, уникальную, ориентированную на конкретного человека психиатрическую помощь. Кроме того, каждый день возникают вопросы, которыми люди задавались еще в Древнем Египте и Древней Греции: мы пребываем в депрессии потому, что погиб наш сын (например, в битве при Фермопилах), или потому, что нездорова та или иная часть тела? А может быть, виноваты ду́хи или все дело в помрачении души или рассудка? И есть ли разница между тем и другим? Что лучше – лечить человека словом или дать ему таблетку? Или просто помолиться?
Нейронаука (или нейробиология)[13] составляет мощный теоретический фундамент нашей работы, но она не дает ответы на все вопросы, да и не только она определяет нас как психиатров. К тому же нейронаука не является одной из специализированных отраслей медицины, как может показаться. Для того чтобы понимать, чем мы занимаемся (как психиатры) или с чем можем столкнуться на консультации (как пациенты), нужно знать, из каких источников пополняется питающая нас река знаний и каким образом они сливаются в ту диагностическую и терапевтическую систему, которую мы применяем сегодня. Психиатрия, название которой происходит от греческого слова ψυχή (душа), расположена на пересечении биологии и гуманитарных наук. Именно поэтому она так прекрасна… и в то же время так сложна.

Две истории науки
Почему я называю историю психиатрии сумасшедшей? Думаете, просто ради красного словца? Нет. Видите ли, у меня есть на то причины. Как утверждал выдающийся американский философ Томас Кун, естественные науки (то есть те, которые изучают объекты, такие как молекулы, планеты или человеческое тело) на протяжении веков развиваются более или менее последовательно благодаря тому, что он называл сменой парадигм. Если говорить упрощенно, то парадигмы по большому счету представляют собой различные мировоззрения и подходы к изучению чего-либо. Я рассматриваю их как совокупность теоретических предположений или закономерностей, которые мы можем использовать в ходе исследований. Рассмотрим пример духовной парадигмы, в рамках которой возникают различные теории: существуют ли злые духи, способные овладеть нами и наслать на нас лихорадку? Или температура тела повышается по воле олимпийского бога, которого мы обидели? Как бы то ни было, в определенный момент возникает оживленная дискуссия между теми, кто отстаивает эту парадигму, и теми, кто предполагает, допустим, что болезни возникают из-за дисбаланса неких субстанций в организме (называемых «гуморами»). В результате этого противоборства появляется новая парадигма, которая определяет подход к изучению причин различных заболеваний. Со временем другие мыслители предположили, что болезни вызываются микроскопическими организмами, проникающими в тело. Это приводит к очередной революции и появлению новой парадигмы, на которой в дальнейшем будет базироваться наука. Существует немало примеров смены парадигм: от предложенной Галилеем концепции Вселенной до ньютоновской механики, волновой оптики или теории электромагнетизма. Впрочем, я отклонился от темы.

В случае с гуманитарными науками, изучающими поведение субъекта, все гораздо сложнее. Дело в том, что в основе гуманитарных наук лежат несколько различных парадигм, многие из которых не исчезли, а продолжали существовать параллельно и сохранились до наших дней. В психиатрии субъект можно изучать с точки зрения биологической, психодинамической (как Фрейд и его учение), бихевиористской (наверняка вам знакомо имя Ивана Павлова и его опыты с собаками), когнитивной (когда болезнь понимается как результат нарушения когнитивных функций), социальной (когда в центре внимания влияние окружающей среды) и даже теологической парадигмы (хотя, к счастью, сейчас она уже не так популярна, как раньше). Достаточно прислушаться к вопросам, которые задают друг другу мои коллеги: «Какого направления придерживаются в твоей больнице – биологического или психодинамического?» Что за ерунда! Ведь я говорю о том, с чем мы сталкиваемся сегодня.
Почему ни одна парадигма не смогла воцариться окончательно и бесповоротно? Причину следует искать в природе того, что мы изучаем, то есть субъекта, который, кажется, поддается интерпретации.

В связи с этим важно рассматривать одновременно несколько различных парадигм, объясняющих то, что мы наблюдаем, с различных точек зрения. В самом деле, когда какая-либо одна парадигма преобладала над остальными, результат обычно был печальным, но об этом мы поговорим чуть позже, в разделе об антипсихиатрии.

Прежде всего замечу, что излагаемая здесь история главным образом западная: именно она оказывает наибольшее влияние на выбор методов лечения в моем окружении. Однако нельзя упускать из виду тот факт, что психические расстройства интерпретировались и изучались во многих культурах мира, то же самое касается и поиска нашей индивидуальности и исследования различий. История гуманитарных наук и, в частности, психиатрии – это история нескольких историй, движение которых напоминает траекторию маятника: то в одну сторону, то в другую, эпоха прогресса сменяется периодом спада. Так было и во времена великих путешествий, когда люди пересекали обширные пустыни и бескрайние степи, перебирались через опасные горные перевалы, чтобы найти прекрасную долину, где можно поселиться.
Великая классика
Линейно изложить историю нейронауки и психиатрии – задача непростая. Тем не менее я попытаюсь кратко рассказать о ней, сосредоточившись на психиатрии или, по крайней мере, на различных подходах к изучению разума, мозга и психических расстройств. Я остановлюсь на пяти важнейших вехах, или революционных сдвигах.
На заре человечества болезнь понималась как сверхъестественное явление в рамках религиозно-мистической парадигмы. Отклонения от нормы в функционировании организма приписывали воздействию духов и божественных сущностей. В некоторых культурах, чтобы установить социальный контроль, болезни объясняли нарушением культурных табу или религиозных традиций. При этом целители пытались вернуть людям здоровье при помощи ритуалов, направленных на изгнание злых духов или усмирение разгневанных богов.
Первой вехой в нашей истории стало смещение акцента со сверхъестественного на естественное – на то, что можно увидеть и потрогать, а именно – на человеческое тело. Первопроходцами в принятии этой точки зрения стали представители великих цивилизаций древности. Известно, что в доколумбовых культурах и в Древнем Египте применялись такие практики, как трепанация[14], которая проводилась для «исправления» физического субстрата, якобы вызывающего поведенческие нарушения, сегодня называемые «безумием». Так или иначе, похоже, в стране фараонов с мозгом не очень-то церемонились: в то время как сердце или печень усопшего тщательно бальзамировали, самый сложный орган во вселенной попросту выбрасывали. То, что сегодня кажется нам само собой разумеющимся (мозг – вместилище души или разума человека), не всегда было так однозначно.
Вторая веха относится к временам Древней Греции, примерно к V в. до н. э. Именно в этот период был заложен фундамент западной научной мысли, основанной на наблюдении и разуме, на котором она зиждется и по сей день. В ту эпоху жил человек, которого я назвал бы «дедушкой» нашей профессии – Гиппократ (или Гиппократ Косский). Этот врач и философ, во многом опередивший свое время, был первым, кто оставил нам труды с предложениями по классификации и описанию заболеваний, влияющих на мышление, эмоции и поведение (выше я уже упоминал МЭП), таких как меланхолия, мания, истерия и эпилепсия. На этом пути был достигнут значительный прогресс в плане концептуального изучения болезней, постепенного разделения религии и медицины, а также, к сожалению, тела и разума. Впрочем, успехи в выявлении причин болезней были намного скромнее: как правило, они объяснялись дисбалансом четырех гуморов, то есть жидкостей в организме (крови, слизи, желтой желчи и черной желчи). При этом между греками разгорались оживленные споры о том, какой орган за все это отвечает. Мозг или его извечный могучий соперник – сердце?

Эта классическая традиция сохранялась до эпохи Римской империи. Авл Корнелий Цельс в I в. до н. э. впервые предложил рассматривать отношения между врачом и пациентом как терапевтический инструмент, указывая на их способность подбодрить того, кто подавлен, и успокоить того, кто встревожен. Другие ученые, например Аретей Каппадокийский, пытались связать болезни с различными частями тела. Большинство нейропсихических недугов (к счастью) локализуется в голове, однако из этого правила есть несколько исключений. Так, истерия была отнесена к области живота, позднее ее стали связывать с маткой (от греч. ὑστέρα – матка) и рассматривать как типично женское расстройство. Меланхолию соотнесли с ипохондрией (от греч. ὑποχόνδριος – подреберье, место под грудиной) – областью, расположенной чуть ниже груди. Именно поэтому исторически понятие ипохондрии так часто переплеталось с депрессией.
Если Гиппократ – дедушка медицины, то Галена, несомненно, следует считать ее отцом. Труды этого греческого мыслителя, жившего во II в. н. э., в которых упоминаются все известные болезни человеческого тела, устанавливают догмат медицины (в его основе – как минимум 500 трактатов, чтобы записать их, по некоторым сведениям, потребовалось более двадцати писцов), на протяжении тысячелетия остававшийся неоспоримым. Гален предложил одно из первых описаний бреда и связал переживание стрессовых событий с тревожными и аффективными расстройствами, а также с симптомами, свойственными истерии. Как и в других областях знания, греко-римская традиция заложила основу наших сегодняшних представлений о мире и оставила нам в наследство многие термины, которые используются по сей день, такие как ипохондрия, мания, эпилепсия, бред, паранойя или либидо.
Шаг назад и два вперед
После распада Западной Римской империи Европа, утратив ориентиры, погрузилась (на свою беду) в эпоху Средневековья – мрачные, дикие времена, когда часы знаний остановились. Фактически наука откатилась на несколько столетий назад, вернувшись к религиозно-мистической парадигме, которую ранее с таким трудом удалось отбросить. Особенно тяжкие испытания выпали на долю людей с психическими заболеваниями. Поскольку католическая церковь пользовалась огромным влиянием на европейском континенте, те, кто страдал психическими расстройствами, превратились из обычных пациентов в грешников, одержимых дьяволом и силами зла. Эти люди систематически подвергались остракизму, их изгоняли из общества, а порой даже преследовали и пытали. Если такого больного называли «слабохарактерным и неуравновешенным», то можно считать, что ему повезло.
Одним из наиболее похвальных исключений был монах Хуан Джилаберто Хофре – валенсийский религиозный деятель, живший на рубеже XIV–XV вв. История гласит, что, став свидетелем жестокого обращения с бродягой, который страдал психической патологией[15], Хофре решил создать первый в мире психиатрический центр терапевтической направленности (не для заточения или выставления «сумасшедших» напоказ, что было распространено в то время), – так в Валенсии появился приют Святых невинных мучеников (Santos Mártires Inocentes). Каким-то чудом получив одобрение церковных и политических властей, центр распахнул свои двери для представителей самых разных культур (что было очень кстати в Валенсии того времени; среди обитателей приюта были и христиане, и евреи, и арабы). Это заведение стало настоящим глотком свежего воздуха и предвестником благоприятных перемен, произошедших в последующие столетия.
С открытием первых университетов и невиданным доселе развитием науки, которое началось в XVI–XVII вв., был достигнут огромный прогресс в определении физических причин заболеваний мозга. Заболевания, последствия которых можно увидеть невооруженным глазом (например, опухоли или кровоизлияния, обнаруживаемые при вскрытии), рассматривались как проблемы со здоровьем и назывались соматическими или неврологическими[16]. Симптомы, не имеющие анатомических коррелятов (под этим подразумевается отсутствие физических повреждений или изменений), оставались в тумане психиатрии. В то время господствовала тенденция к разделению мозга и разума (или души), поскольку предполагалось, что они функционируют независимо друг от друга, – мы называем этот подход картезианским дуализмом, в честь французского философа Рене Декарта (от лат. Cartesius, латинизированного имени Декарта), основоположника данной концепции.
Наконец, мы подошли к третьей вехе в истории психиатрии, которой отмечен XVIII в. (самый разгар Великой французской революции). Эта веха связана с именем Филиппа Пинеля, известного как «великий реформатор психиатрии», «пионер гуманизации» и «освободитель от оков». Он был главным врачом одной из самых известных больниц Европы – Питье-Сальпетриер в Париже. По свидетельствам современников, это гигантское учреждение вмещало около 10 000 больных (для сравнения, Клинический госпиталь в Барселоне, одна из крупнейших больниц Испании, может одновременно принять менее 1000 пациентов). Пинель ввел в научный обиход термин «психическое расстройство», приравнял его к другим заболеваниям и определил в качестве субстрата головной мозг. Кроме того, он отверг понятие «слабость личности», которое сопровождало пациентов на протяжении нескольких столетий. Пинель разработал классификацию психических расстройств в соответствии с медицинскими критериями, приблизив их к наблюдению, систематическому изучению и методам естественных наук, а также ввел новый способ помощи пациентам – моральное лечение. По его мнению, прежде всего было необходимо освободить больного от механических ограничений (знаменитой смирительной рубашки), отменить неэффективные методы лечения (такие, как кровопускание, которое, «как ни странно», только ослабляло пациента, или абсолютно бесполезный экзорцизм), поощрять социальные контакты и занятия различными видами деятельности – прогулки, рисование, прослушивание музыки и т. д. До тех пор людей с психическими расстройствами называли «умалишенными», «оторванными от общества» (зачастую именно потому, что их всю жизнь держали в стенах специальных учреждений), а психиатров, соответственно, – «докторами для умалишенных». Таким образом, моральное лечение представляло собой радикальный сдвиг в сторону гуманного обращения с психически больными людьми и освобождения их от оков в прямом и переносном смысле. Вскоре у Пинеля появилось несколько последователей (сейчас их назвали бы фолловерами), в числе которых француз Жан-Этьен Эскироль. Свобода, равенство, братство!

Два корифея
В XIX – начале XX в. немецкие и австро-венгерские психиатры соперничали со своими французскими коллегами, оспаривая ведущую роль в психиатрии. Четвертая веха, ознаменовавшая рубеж этих столетий, связана с именами двух великих исторических личностей, которые придерживались противоположных мнений по целому ряду вопросов.

Первый из них, конечно, Зигмунд Фрейд, отец психоанализа и один из трех представителей так называемой философии подозрения (двое других – Фридрих Ницше и Карл Маркс). Истоками этой доктрины послужили труды великих мыслителей, которые сумели пролить свет на концепции, таинственным образом ускользавшие от внимания европейских философов. В частности, Фрейд выдвигал на первый план человеческое бессознательное. Он и его последователи поддерживали идею о том, что психические расстройства возникают и развиваются в процессе приобретения опыта, то есть на протяжении всей жизни (например, если с человеком плохо обращались или он пережил травмы в детстве). Этот опыт и сопровождающие его переживания подавляются в бессознательном, вступая в конфликт с личными или общественными ценностями, что приводит к появлению симптомов, свойственных психическим расстройствам. По мнению Фрейда, симптомы имеют вполне конкретное, но скрытое значение и пациент может избавиться от них, если получит к ним доступ и поймет их. Австрийский ученый первым начал изучать такие табуированные в его время темы, как базовые влечения всех живых существ (сексуальность и агрессивность) и психосексуальное развитие ребенка. Он также уделял внимание толкованию сновидений и рассматривал процессы, сопровождающие взаимоотношения врача и пациента, в частности перенос и контрперенос. Однако наиболее известен Фрейд тем, что раскрыл роль бессознательного в жизни людей, в искусстве и культуре и даже в социально-политических движениях. В общем, для своего времени он был новатором.
Вторая персона, и тоже с усами, – немецкий психиатр Эмиль Крепелин. Он утверждал, что психические расстройства обусловлены биологическими факторами, которые в большинстве случаев передаются от родителей. Крепелин основал в Мюнхене несколько исследовательских лабораторий, сотрудники которых изучали генетику, нейрохимию и эпидемиологию психических расстройств. При этом Крепелин, в отличие от Фрейда, отвергал идею о том, что каждый симптом имеет определенное значение.

В том же направлении работал, среди прочих, соотечественник Крепелина Вильгельм Гризингер, который сосредоточился на изучении тканей мозга, предположив, что психические расстройства возникают из-за диффузных повреждений (возможно, именно поэтому заболевание так трудно заметить!).
Крепелин существенно обогатил наши представления о психических расстройствах. Тщательно изучив своих пациентов, он разделил так называемые «душевные болезни» на две основные категории: нарушения мышления, среди которых парафрения и раннее слабоумие (dementia praecox, которое вскоре было переименовано в шизофрению по инициативе швейцарского психиатра Эйгена Блейлера – как ни удивительно, он тоже носил усы), и аффективные расстройства, в том числе маниакально-депрессивный психоз (ныне известный как биполярное расстройство). Это разделение стало первой успешной попыткой структурировать и категоризировать психические расстройства, которые фактически представляют собой «болезни», поскольку каждое из них имеет свои клинические характеристики, возраст начала и, что особенно важно, свое течение и прогноз (в этом состояло отличие теории Крепелина от предыдущих концепций, в большей степени ориентированных на сравнительные описания).

Позднее успех Крепелина был подтвержден выводом о том, что заболевания каждой категории можно лечить особым образом. Так психиатрический инструментарий постепенно становился все более упорядоченным.
Наконец, Крепелин был еще и основоположником этнопсихиатрии[17]. Он совершил путешествие в Юго-Восточную Азию, чтобы доказать: описанные им психические состояния связаны с культурными и этническими факторами и распространены в определенном регионе (в данном случае – у коренных жителей Индонезии). После Крепелина многие ученые из разных стран мира принимали участие в создании современной психиатрии, группируя психические расстройства по дифференциальным признакам. В настоящее время эти расстройства систематизированы в двух основных диагностических руководствах: «Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам» (DSM) и «Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем» (МКБ).
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Notes
1
От греч. ἐντελής – полный, совершенный и ἔχω – иметь, обладать; термин, введенный Аристотелем, означающий внутреннюю силу, потенциально заключающую в себе цель и окончательный результат деятельности. – Прим. ред.
2
Нейровизуальные тесты, или нейровизуализация, – совокупность методов, с помощью которых получают изображения определенной структуры или функции нервной системы.
3
Соматические – относящиеся к материальной или телесной составляющей живого существа.
4
Анемия – синдром, сопровождающийся сниженным количеством красных кровяных телец (эритроцитов) и гемоглобина – вещества, содержащегося в эритроцитах и отвечающего за распределение кислорода в организме. Симптомы анемии, встречающиеся среди прочих при депрессии: слабость, одышка при физических нагрузках, грусть или вялость; признаки: бледность кожи и слизистых оболочек и т. д.
5
Психотерапия – интерактивная методика психокоррекции, основанная на взаимодействии и диалоге между и психотерапевтом и клиентом (пациентом) и направленная на изменение мыслей, эмоций и поведения последнего.
6
Направление диагностики – диагноз, который предполагается первоначально, при отсутствии подтверждения с помощью более детального обследования.
7
Симптом – субъективное проявление болезни, например боль, головокружение или настроение.
8
Признак – объективное, поддающееся измерению проявление болезни, например повышенная температура или частота сердечных сокращений.
9
Злокачественность – тенденция к прогрессирующему ухудшению клинического состояния. В частности, в онкологии это означает способность опухоли вторгаться в другие части тела или распространяться в них через метастазы.
10
Стигматизация (социальная) – отнесение человека к социальной категории, к представителям которой формируется негативное отношение, поскольку их считают неприемлемыми, нежелательными или неполноценными членами общества.
11
Патофизиология – патологические физические и химические процессы (болезни), происходящие в живых организмах при осуществлении ими обычных функций, включая механизмы любого уровня: молекулярного, субклеточного, клеточного, тканевого, органного и анатомического.
12
Ординатура – программа подготовки медиков, позволяющая получить определенную специализацию, например в области кардиологии или психиатрии. Действует в Испании с 1976 г.
13
Нейронаука (нейробиология) – междисциплинарная область знаний, изучающая нервную систему, ее аспекты и специализированные функции.
14
Трепанация – хирургическая операция, в ходе которой в черепе или в другой кости проделывается отверстие в лечебных или диагностических целях; является одним из старейших методов хирургии.
15
Патология – физическое или психическое заболевание.