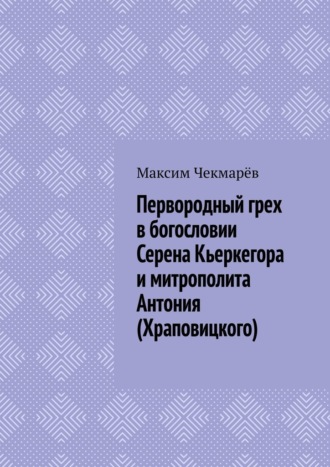
Полная версия
Первородный грех в богословии Серена Кьеркегора и митрополита Антония (Храповицкого). Сравнительный анализ
Первая стадия, называемая Кьеркегором обывательской, характеризуется стремлением быть как все. Здесь не всегда есть даже стремление, обычно это пассивно воспринятые формы поведения, отношений и чувствования. В этом состоянии человек уязвим, он подстраивается. Благоприятная среда откроет для него благоприятные возможности, а порочная – разрешение быть порочным, даже не задумываясь об этом. Такой человек часто невинен в своей наивности, но это очень далеко от настоящей христианской праведности, даже если его поведение окажется соответствующим нормам морали. Транслируемый окружением образ жизни, который воспринимается человеком, может не затрагивать внутреннюю жизнь человека, даже вытеснять её, потому что она оказывается обусловленной, автоматизированной. Митрополит Антоний Сурожский писал о похожем явлении: «Грех есть потеря контакта контакта с собственной глубиной» [1].
Жизнь «как у всех» постепенно приводит к кризису, потому что личность не чувствует себя проявленной. Без контакта с Богом человек обычно выбирает понятный выход из подобного кризиса – жить лучше других, ярче других, брать от жизни всё, часто не оглядываясь на ближних. Кьеркегор назвал эту стадию эстетической, потому что она сфокусирована на впечатлениях от жизни. Она наполнена творчеством, но предполагает, что человек может как творить, так и вытворять что-то. Практикуя открытость к новому, мы неизбежно рискуем, причём здесь риск может становиться самоцелью. Эгоцентричный фокус эстетической стадии может приводить к безнравственному отношению к другим, которые, если утрачивается эмоциональная связь с ними, могут восприниматься как предметы, использоваться в своих целях.
Жизнь для себя, для ярких впечатлений постепенно так же заходит в тупик. Можно получить больше, но это не делает нас полнее, целостнее, осмысленнее. В самом себе, да ещё и замкнутом на себе, становится тесно. Постепенно становится понятно, что у нас нет подлинных отношений с другими. Человек начинает попытки расширить свой мир, открыться окружающим, жить ради других. Он переходит на стадию, которую Кьеркегор называл этической. Она воспринимается наиболее социально приемлемой, здесь многие люди задерживаются, стремясь получить признание. Тревогой Кьеркегора является то, что на этой стадии задерживается и церковь. Он пишет о современном ему лютеранстве, но те же мотивы прослеживаются в любой конфессии, это характерно и для Православия. Датский философ обеспокоен, что религия перестаёт выполнять свои функции связи с Богом, социальное служение не равно для него спасению [37]. Мы можем проследить и на своём личном опыте предел этической стадии – творя что-то ради кого-то, трудно избежать разочарования от косности мира, нарастает напряжение несправедливости, невыносимым становится отсутствие результата своего активизма. Легко скатиться в осуждение «непробудившегося» мира.
Попытавшись жить как все, затем лучше других, потом для других, мы заходим в тупик. Нет возможности почувствовать осмысленность жизни, находясь в поисках во внешнем пространстве. Человек останавливается в отчаянии, замедляется, обращает взор во внутренний мир, и в этом безмолвии становится доступным расслышать тихий голос Бога в собственном сердце. Это отчаяние оказывается проникнуто верой, прыжком доверия через бессмысленность к Богу. В качестве примера «рыцаря веры» Кьеркегор приводит Авраама, согласившегося прийти и в обетованную землю, и решившегося на жертвоприношение Исаака. Вера становится сильнее, когда мы понимаем, что нет другого центра, иной точки опоры [27].
Экзистенциальная майевтика, таким образом, обыгрывает слова Иисуса о «новом рождении», «рождении свыше», которые актуальны, потому что существует дистанция между человеком и Богом. Кьеркегор связывает её с учением о первородном грехе, раскрытым им в работе «Понятие страха» на стыке психологических вопросов экзистенциальной тревоги и богословских вопросов учения о грехе.
В «Понятии страха» Кьеркегор выстраивает логику, отличную от присущего в Западном богословии юридического подхода [29]. Он утверждает, что как в Адаме, так и сегодня «человек является самим собой и родом», определяя собственное бытие и влияя на современников и потомков. Для первых людей обстоятельства отличались тем, что они были сотворены по своей природе готовыми к общению с Богом, это было реальностью рая. Однако люди не были сотворены праведными. Их состояние правильнее описать как невинность, незатронутость грехом в силу неведения. Они тоже были призваны к достижению праведности, как и мы, необходимым условием для её достижения была свободная воля. Зная волю Бога, первые люди ещё нуждались в её восприятии, поэтому перед ними стоял выбор – быть в согласии с ней, но оставалась и возможность уклониться неё. Таким образом непосредственный грех Адама и Евы является их личным грехом, но он имел последствия в виде утраты контакта с Богом для их потомков. Грех перестал быть потенциально возможным, он стал реальностью для мира и человека, отсекая нас от божественного. Утрата контакта с Богом предполагает смертность, недостижимость Источника Жизни, а также переживание тревоги и тоски по утраченному единству.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

