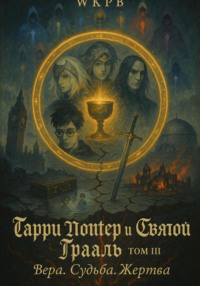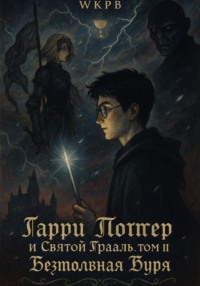Полная версия
Кривыми линиями

WKPB
Кривыми линиями
Звуки уходили первыми. Не резко, не хлопком закрывшейся двери, а словно медленно отступающий прилив. Равномерный писк аппарата справа стал тише, превратился в далекое эхо, а потом и вовсе растворился в нарастающей ватной тишине. Затем ушло осязание: колючее прикосновение казенной простыни, холодок катетера на руке, даже собственная тяжесть на продавленном матрасе – все стало чужим, далеким, будто происходящим не с ним. Последним сдался свет. Белый потолок палаты потемнел, съежился в одну точку и погас, как старая лампочка.
Мир закончился. Остался только он.
И страх был не перед небытием. Пустоты он почти желал, как уставший путник – сна без сновидений. Нет, его пробирал до самого основания души иной холод – страх перед тотальной памятью. Предчувствие того, что сейчас ему покажут все. Не фильм, где он главный герой, а бесконечную, до мельчайшего кадра подробную запись с камеры наблюдения, где он – подсудимый. И судья – он сам.
Он еще не видел ничего, но уже чувствовал жар грядущего стыда. Не за большие, очевидные грехи – те хотя бы можно было назвать выбором, ошибкой, падением. Нет. Ему было заранее стыдно за каждую секунду пустоты. За каждую мысль, лениво скользнувшую не туда. За взгляд, брошенный с равнодушием на плачущего. За слово, не сказанное тому, кто в нем нуждался, как в воздухе. За всю ту колоссальную, звенящую пошлость мелочной жизни, которую он считал своей и единственной. Он вдруг понял, что всю дорогу шел, глядя себе под ноги, спотыкаясь о собственные желания, и ни разу не поднял голову к звездам, чтобы спросить: «Зачем?».
И в этой абсолютной тишине, в этом преддверии невыносимого самосуда, когда его «я» уже начало распадаться на мириады стыдливых осколков, в сознании вспыхнула последняя, ясная и до нелепости четкая мысль. Мысль не о Боге, не о прощении, не о матери.
Она.
Он никогда не был влюблен в ее образ – это было бы слишком просто. Он восхищался ею, как геолог восхищается совершенным кристаллом, выросшим в грязи под чудовищным давлением. Девочка, не знавшая грамоты, но говорившая с вечностью. Крестьянка, изменившая ход истории Европы. Святая для одних, еретичка в прелести для других. Но за всеми этими ярлыками он всегда пытался разглядеть суть – ту невероятную, непостижимую силу веры, которая могла двигать не только горами, но целыми народами.
И его последний, беззвучный вопрос, обращенный в никуда, был не криком о спасении, а почти смиренным любопытством исследователя на пороге величайшего открытия:
«А можно ли… там… поговорить с ней? Не на французском, не на русском. Вообще без слов. Просто понять. Не Жанну-воительницу, не Орлеанскую Деву. А ту самую девочку из Домреми. Понять, как это – слышать Бога так ясно, как он сейчас слышит эту тишину».
Вопрос повис в пустоте, которая больше не была пустотой. Она стала ожиданием ответа.
Ответа не последовало. Вместо него ожидание лопнуло, и тьма взорвалась ослепительным светом. Не божественным, не мистическим. А самым обыкновенным, летним, полуденным солнцем, бьющим по глазам сквозь густую листву старой яблони.
Ему снова было семь.
Он сидел на корточках в пыльной траве за домом, и мир сжался до размеров спичечного коробка в его пухлых детских руках. Внутри, царапая картон, метался пленник – большой, бронзово-зеленый майский жук. Он поймал его только что, накрыв ладонью прямо на лету, и сейчас чувствовал себя властелином мира. Не злым, нет. Просто всемогущим.
Он слышал жужжание – приглушенный, отчаянный гул бессилия. Он чувствовал, как тонкие лапки скребутся о стенки, пытаясь найти выход. А он, семилетний бог этого крошечного мирка, сидел и думал. Ему было неинтересно просто отпустить его. Ему было любопытно. Что будет, если?..
Он приоткрыл коробок на волосок. Жук тут же рванулся к полоске света, но он захлопнул крышку. Еще раз. И еще. Это была игра. Дразнящая, захватывающая игра в надежду и отчаяние. Он видел не живое существо, а игрушку, механизм, чью реакцию на стимул он изучал с холодной сосредоточенностью юного инженера.
А потом ему стало скучно.
Он не раздавил жука. Не оторвал ему лапки. Это было бы слишком просто, слишком… грязно. Он сделал хуже. Он просто потерял к нему интерес. Он положил коробок на землю, встал и побежал в дом, потому что мама позвала обедать. И больше никогда о нем не вспомнил.
До этого самого момента.
Сейчас, в этой безвременной пустоте, он не просто вспомнил. Он стал этим жуком. Он почувствовал панику замкнутого пространства. Он ощутил отчаяние от полоски света, которая манила и тут же исчезала. Он пережил медленное угасание в темноте, когда воздух кончился, а силы иссякли. Он умер этой крошечной, бессмысленной смертью в картонной тюрьме, забытый своим безразличным богом.
И следом он снова стал собой, но уже не тем мальчиком. Он стал тем, кто он есть сейчас, и увидел эту сцену не как детский проступок, а как пророчество. Как первую трещину, прошедшую через всю его жизнь. Это было не просто жестокостью. Это было пренебрежением к чуду. К чуду маленькой, жужжащей, отчаянно хотящей жить жизни, которую он превратил в игрушку и выбросил.
Он вспомнил, как спустя годы, уже будучи взрослым, он так же «играл» с людьми. Давал надежду и отнимал. Приближал и отталкивал. Не со зла. А просто из скуки. Из любопытства. А потом терял интерес и уходил, оставляя их в своих «спичечных коробках» обид и несбывшихся надежд, даже не задумываясь об их судьбе.
Он вспомнил, как однажды его самого почти заперли в такой коробок. Как его творчество, его душу, его полет пытались поймать, изучить и выбросить за ненадобностью. Как его самого почти уничтожили равнодушием и пренебрежением.
И огонь стыда, который вспыхнул в нем, был не за жука. Он был за то, что, пережив это на себе, он так и не понял урока. Он так и не научился видеть в каждом живом существе – от жука до человека – не объект для изучения, а дрожащее пламя жизни, которое так легко погасить одним лишь безразличием.
Стыд был таким всепоглощающим, что ему захотелось исчезнуть, стереться, аннигилироваться. Но исчезнуть было нельзя.
Потому что это было только начало.
Ощущение хитинового хруста под пинцетом еще не прошло, как декорация сменилась. Солнечный сад за домом утонул во тьме, которая тут же собралась в гудящий прямоугольник ЭЛТ-монитора. Он сидел в кресле, ему было семнадцать. И он снова был богом.
Его царство теперь было не из картона, а из кода. Форум для начинающих писателей. Пять минут назад он выложил свой новый рассказ. Барочно-сложный, полный отсылок, которые поймут единицы, с идеально выверенным, холодным ритмом. Он перечитывал восторженные комментарии – «гениально», «глубоко», «вы – будущий классик» – и чувствовал, как внутри разгорается холодный, чистый огонь интеллектуального превосходства. Это было лучше, чем власть над жуком. Это была власть над умами.
А потом, в ветке ниже, появилось это. Стихотворение. Его написала какая-то девушка, новичок на форуме. Оно было до смешного простым, с корявыми рифмами и сентиментальными образами о дожде и разлуке. Искреннее, как детский рисунок. И такое же беззащитное.
Он почувствовал почти физическое отвращение. Как можно выставлять на всеобщее обозрение такую наготу, такую слабость? Как можно так не владеть словом, главным инструментом человека? Его пальцы сами легли на клавиатуру. Он не собирался ее оскорблять. Он собирался ее научить. Объяснить. Указать на ошибки. Сделать вскрытие.
Его комментарий был длинным. Длиннее самого стихотворения. Он был остроумным, ядовито-вежливым и беспощадно точным. Он не просто разбирал – он расчленял. Каждую метафору он высмеивал как банальность. Каждую рифму пригвождал к позорному столбу безвкусия. Он орудовал словами как набором хирургических инструментов, с той же отстраненной сосредоточенностью, с какой когда-то отделял таракану лапки. Он показывал всем и, в первую очередь, себе, как надо. И как не надо. Он утверждал свою власть, свою территорию, свое право быть единственным настоящим творцом в этом болоте дилетантов.
Закончив, он нажал «Отправить» и испытал укол чистого, дистиллированного наслаждения. Он победил. Как тогда, в детском саду, когда проиграл в шахматы и уничтожил победителя потоком брани, чувствуя, что так он возвращает себе силу.
Ее ответ был коротким: «Спасибо, я поняла». И больше она на форуме не появлялась.
И вот сейчас, в безвременьи, он стал ею. Он почувствовал, как сердце ухнуло, когда она увидела его комментарий. Он ощутил, как горячая волна стыда заливает лицо, как хочется сжаться, исчезнуть, провалиться сквозь землю. Как что-то нежное и доверчивое внутри нее, что решилось прорасти и показаться миру, было срезано под корень его отточенной фразой. Он не просто раскритиковал стих. Он сказал ей: «Тебе не место здесь. Твои чувства – мусор. Твоя душа – безвкусица».
И тогда пришло понимание, острое и страшное, как лезвие.
Мальчишки, кидавшие в него камни. Хулиганы в школе, травившие его за то, что он «не такой». Он всегда считал себя их жертвой. Но он не был. Он был их учеником. Он просто нашел оружие получше. Они били по телу, а он научился бить по душе. Он использовал свой дар, свое единственное сокровище, не для того, чтобы создавать миры, а для того, чтобы разрушать чужие, маленькие и беззащитные.
Работодатель, заставивший его гробить спину на сквозняке. Мошенники, не заплатившие за труд. Мир раз за разом показывал ему его же отражение – холодное пренебрежение к другому человеку, который для тебя всего лишь функция, объект, ступенька для самоутверждения.
Он не был жертвой этого мира. Он был его неотъемлемой, органичной частью. Он был и тараканом под пинцетом, и мальчиком, держащим этот пинцет. И от осознания этого двуединства хотелось не просто сгореть от стыда. Хотелось кричать. Но голоса у него не было.
Крик рвался изнутри, но у него не было ни рта, чтобы его издать, ни легких, чтобы набрать воздуха. Он был чистым сознанием, прикованным к креслу в кинотеатре собственной души, где на экране без конца крутили один и тот же фильм – его жизнь. И он был не зрителем. Он был каждым актером одновременно. И мальчиком с пинцетом, и умирающим тараканом. И юным снобом с клавиатурой, и девушкой, чей хрупкий дар был растоптан. Эта полифония стыда была единственной реальностью, оглушающей и бесконечной.
А потом гул стих, уступив место тишине комнаты, утопавшей в предвечернем свете. Он сидел напротив нее за кухонным столом. Чашка с ее недопитым чаем уже остыла. Он помнил эту сцену с фотографической точностью. Это был его «благородный» час.
Он говорил. Слова лились плавно, отрепетировано, как монолог из хорошей пьесы. О том, что она – свет, а он – тьма. О том, что она заслуживает цельного, здорового человека, а не его, собранного из осколков и противоречий. О том, что он любит ее слишком сильно, чтобы позволить себе сломать ей жизнь. Он отпускает ее. Это самое тяжелое решение в его жизни, но он принимает его ради нее.
В тот момент он упивался своей трагедией. Он чувствовал себя почти святым, мучеником, распинающим собственное сердце на кресте любви во имя ее спасения. Он видел в ее глазах слезы и принимал их за скорбь о расставании, не понимая их истинной природы.
Она молчала, глядя на него. А потом тихо сказала:
– Я все понимаю.
И в тот же миг он стал ею.
Он сидел и слушал этот идеально выстроенный монолог. И чувствовал не боль от разлуки. Он чувствовал, как его окатывает ледяной волной унижения. Его не спросили. Его мнение не имело значения. За него все решили, упаковав это в красивую обертку заботы. Ему не сказали правду: «Я устал», «Я нашел другую» или «Мой эгоизм сильнее моей любви». Нет. Его лишили даже права на горькую правду. Вместо этого его похлопали по плечу, назвали «светом» и выставили за дверь его же собственного мира, объяснив, что так для него будет лучше. Это было не милосердие. Это была подачка.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.