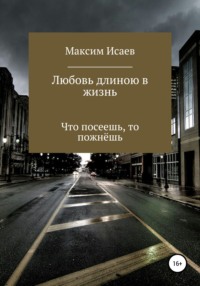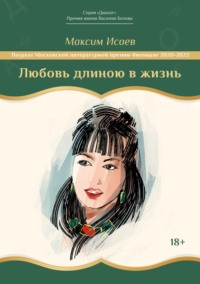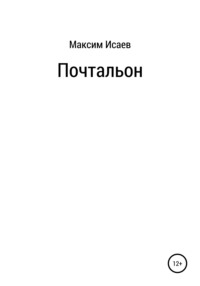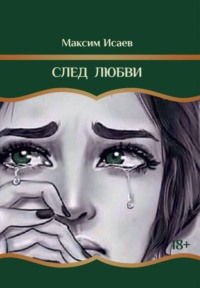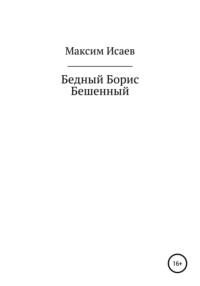Полная версия
Укротители монстров
Не буду далее углубляться в технические дебри новой машины, но только скажу, что в то время самосвал этот был чудом конструкторских решений. А всё это требовало времени для доработок на местах, в хозяйствах ещё наладить монтаж и техническое обслуживание этих машин.
Бывший директор завода Пархомчик Пётр Александрович сегодня отзывается об этой модели как о гениальном конструкторском решении того времени, к сожалению, временно в какой‑то период истории завода позабытом, но по воле директора восстановленном на последующих моделях серийных машин.
Мне довелось год поработать именно в этой службе в качестве инженера-испытателя – руководителя шефмонтажной бригады, – так записано в трудовой книжке у меня. Ездил я с бригадой по хозяйствам, собирали мы машины, испытывали, сдавали хозяйствам по акту приёма-сдачи и возвращались с полными карманами впечатлений, событий и приключений. И собирали в трудных, не приспособленных для этого условиях, на коленях, что называется. Для того чтобы наладить нормальный процесс монтажа и запуска в эксплуатацию новых самосвалов, нужно было время. Об этом, друзья, надеюсь, вы прочтёте ниже, если я не надоем вам своими назиданиями и рассказами. Впрочем, там будет интереснее, чем сухое изложение фактов.
Однако же завод одержимо шёл вперёд. В 1977 году, когда и я был частью новых шагов предприятия, завод собрал первые образцы нового самосвала с большей чем прежде грузоподъёмностью – БелАЗ‑7519 грузоподъёмностью 110 тонн – базового самосвала класса грузоподъёмности 110–120 тонн. А ещё через год, в 1978 году, на заводе начался выпуск аэродромных тягачей для буксировки самолётов в аэропортах со взлётным весом 100 тонн.
Впрочем, давайте пока вернёмся в дни сегодняшние. Задумав написать книгу о заводе, я решил встретиться с бывшим генеральным директором, а в те дни уже министром промышленности, заместителем председателя Совета Министров Беларуси, Пётром Александровичем Пархомчиком, и написал ему письмо. Министр принял меня, дал весьма интересное интервью, благословил на дальнейшую работу над книгой и пожелал успеха. А ещё он связался с директором завода и попросил сотрудничать со мной.
Я не просил Пётра Александровича позвонить директору, и даже не собирался ехать на завод. Планировал написать лишь о том времени и событиях, когда сам работал на заводе и был участником этих событий. Он сам предложил мне поехать, написать немного о сегодняшней жизни завода, и сам же позвонил директору. Не скрою, мне это понравилось, и я поехал.
Мне удалось договориться с руководством завода о встрече и посещении мной цехов для ознакомления с сегодняшним видом предприятия, состоянием дел на заводе.
Свидание с прошлым
Приближаясь к заводу, я сбросил скорость и стал рассматривать стоящие за кованым забором машины, чтобы уловить перемены в производстве и сравнить с тем, что было лет сорок – сорок пять назад, когда я впервые перешагнул через проходную завода, которому отдал часть своей жизни, полную лирических, драматических и даже трагических событий. Сердце стучало усиленно, оно волновалось, будто боялось за моё здоровье, будто не хотело, чтобы я ворошил прошлое, вернулся к тем событиям в далёком далеке, чтобы снова пережить всё это. Но кто, если не я! Ведь я с заводом прожил и пережил самое трудное время строительства и развития второй очереди, время нашествия на нас смутной эпохи перестройки и хозрасчёта; работал мастером, технологом, конструктором, руководителем среднего звена; изнутри хорошо знал завод, его радости и проблемы…
Нет, я должен написать об этом. Никто не сделает это так, как могу сделать я. И я это сделаю.
Припарковался, с большим трудом отыскав на стоянках нишу для своего авто: со всех сторон проходных завод окружён большими площадями стоянок, забитых автомобилями далеко не всегда бюджетного класса. «Хорошо живут», – подумалось. Значит, хорошо работают и зарабатывают неплохо, коль живут хорошо. На улице перед проходной широкий тротуар на две стороны выстлан красным гранитом. Кованый забор, держащийся на мраморных столбах, украшен литыми бронзовыми барельефами, на которых отлиты силуэты Монстров и даты их рождения.
Цифровая строка на крыше проходной бегает даже быстрее, чем я привык видеть в других местах, будто торопит струю молча шагающих, сосредоточенных, уверенных в себе работников завода к своим рабочим местам; этих с виду скромных тружеников, но на самом деле – настоящих укротителей Монстров самых крупных в мире машин, машин-тружеников, машин-красавиц, от одного вида которых у любого возникает чувство восторга и гордости за свою страну, за свой народ и неподдельное уважение этим простым людям с виду, а на самом деле – создателям этих чудовищ, настоящим укротителям добрых и красивых Монстров.
На проходной меня встречает миловидная дама, представляется Юлей, и я вторгаюсь на территорию, где каждый день происходит волшебство, происходит рождение этих самых грозных с виду, но добрых по сути монстров, машин-великанов, неутомимых тружеников, о существовании которых знают только те, кто привлечён к магии создания их на заводе и их укрощению на карьерах по всему миру.
Сердце колотится бешено. Я волнуюсь, я теряюсь. Точно так, когда я впервые вступил на эту без преувеличения святую землю, где пишется святая история Родины. Сорок пять лет! Как давно это было! Но я всё помню, многое из событий тех лет начёркано у меня в записках, дневниках, в памяти. По гранитной дорожке мы направляемся к административному корпусу. Я задерживаюсь, осматриваю, вспоминаю. Не узнаю. Современные новые и чистые фасады зданий, цехов шепчут мне, что я попал в будущее; я вижу картину, опережающую своё время.
Ковры на входе в первый этаж, мраморная лестница и полы на втором этаже, необычно легко открывающиеся шумопоглощающие двери синего – фирменного – цвета завода. В офисе, куда привела меня Юля, шикарная современная мебель, мягкие кресла, компьютеры лучших моделей. Несколько дам сосредоточенно стучат по клавиатуре, пропустив мимо ушей даже мой комплимент о женской красоте в их лицах.
Юля предложила мне час ожидания приёма директором провести в заводском музее. Я был в старом музее много лет назад, но теперешний музей – достойное завода зрелище. Он, оказывается, открыт всегда, и любой желающий может свободно посетить его в любое время.
Моё желание походить по заводу, по цехам и увидеть своими глазами сегодняшнюю картину Юля удовлетворила, видимо, согласовав с начальством, но приставила ко мне сопровождающего – совсем юного сотрудника отдела, вчерашнего выпускника исторического факультета Алексея, дабы я чего не натворил по своей молодой глупости или по старой наивности. Ну хоть так. Я без претензий.
Завод действительно не узнать. Мне было достаточно и одного дня, чтобы пройтись по основным цехам и сравнить с тем, что и как было, когда я работал. Сравнение это и удивило, и порадовало меня, местами даже потрясло – настолько сильны были эти перемены. Во время интервью Пархомчик П. А. описал состояние завода одним словом: «вылизан». И только теперь, когда я провёл экскурсию по заводу, убедился, что это была не метафора. И подумал, что вот она, роль личности в истории. А ещё я был свидетелем этих перемен на заводе, но только уже не изнутри, а со стороны – жил в те годы в частном секторе недалеко от завода и засыпал под гул моторов во время реостатных испытаний. Да и общался частенько с бывшими коллегами времён моей работы на заводе, расспрашивал, узнавал много интересного.
Кого бы я ни спрашивал, все говорили, что да, именно Пархомчик П. А. привёл завод к сегодняшнему «вылизанному» состоянию. Поэтому часть описания истории завода я решил начать материалом о нём.
Итак, Пархомчик П. А. Кто он? Откуда? Каков он? Что и как сделал на заводе, будучи генеральным директором?
Пархомчик Пётр Александрович
Великие личности всегда наталкиваются на яростное противодействие посредственных умов.
Альберт ЭйнштейнУ лидера есть две важные черты: во‑первых, он сам куда‑то идёт, во‑вторых, он может повести за собой людей.
Максимилиан Робеспьер, один из лидеров Великой Французской революцииГод 2007‑й. Этот год специалисты назвали годом убаюкивающего, усыпляющего бдительность экономического роста. Белорусская экономика выдержала первый нефтегазовый ценовой удар, но к концу года в стране наметились отрицательные тенденции в экономике. Инфляция выросла с 6,6 до 12,1 %. Пенсионеры и студенты потеряли ряд льгот. В стране сокращали отпуска, в частности, врачам и учителям. Главной причиной ухудшения экономического положения в стране стало увеличение Россией цен на энергоносители, которые закупала Беларусь.
Лихорадило экономику, предприятия стали терять доходы, прибыль. Не стал исключением и БелАЗ – фактическое градообразующее предприятие. Надо было спасать завод.
И вот 23 июля 2007 года командовать парадом, то есть заводом, присылают из столицы никому в Жодино, на БелАЗе, не известного Пархомчика Пётра Александровича, назначив его директором ПО «Белорусский автомобильный завод», который позже становится и генеральным директором РУП «Белорусский автомобильный завод».
Не все приняли нового руководителя с восторгом, не все поняли решение вышестоящих инстанций о таком назначении человека со стороны. Ведь окружение Мариева, уже проводив его на пенсию, таило в себе хоть какую‑то надежду видеть в кресле директора или себя, или кого‑то близкого из своего окружения. Не оправдались надежды. Трудно было смириться с этим. Полетели анонимки. Потом, правда, некоторые, признав его как директора, извинялись, а кто‑то просто ушёл с завода, так и не смирившись с новыми обстоятельствами. Впрочем, на встречу с горячими объятьями Пархомчик и не рассчитывал, но и такого ушата холодной воды со стороны заводской элиты он тоже не ожидал. Решил он не обращать внимания на эти подковёрные шептания, интриги и просто начать работать, как и привык везде, решать вопросы.
Кто такой Пархомчик Пётр Александрович? И как ему удалось не только переломить ситуацию, но и неслыханно, невиданно продвинуть завод вперёд, расширить круг потребителей, освоить совершенно необычные и непривычные для завода виды продукции? А ещё сделать прыжок выше, в правительство?
От своих однокурсников, которые работали на тракторном, и бывших его коллег по заводу, которым довелось работать или рядом, или в команде Пархомчика, я и раньше слышал весьма положительные, а то и лестные отзывы о нём, но теперь, когда я уже взялся написать книгу о заводе, без встречи с ним, без его участия в моём проекте мне никак нельзя, невозможно обойтись. Руководитель, который всего‑то за тринадцать лет вывел завод на совершенно новый уровень, сделав его мировым лидером по продажам, априори должен быть интересным не только работникам завода, но и любому руководителю даже не совсем профильного предприятия. Мне надо стучаться к нему в первую очередь. И я достучался до него.

Для того чтобы понять уровень мышления и энциклопедические знания этого человека, достаточно пообщаться с ним буквально десять минут. Мне же удалось послушать его два часа и долго потом удивляться, как это возможно – держать в голове столько информации и без заминки называть даты, имена, события, попутно анализируя все это красиво поставленной, как у опытного диктора, речью. Мне кажется, что он может рассказывать о своей работе на тракторном заводе сутками, бесконечно, приводя мельчайшие подробности из своей биографии на заводе; мне интересно слушать его, перебивать не хочется, но всё же я пишу о БелАЗе, мне хочется больше услышать о нём. И больше об эмоциональном, о моральном, духовном содержании событий.
Давайте, однако, немного расскажем о нём. И по порядку.
Родился Пётр Пархомчик на окраине Минска, в частном секторе, в обычной рабочей семье. С детства был приучен к труду на своём участке в саду, да и всяких хватает работ, если живёшь в частном доме. Учился Пётр на «хорошо» и «отлично». Как и многие мальчишки того времени, хотел стать лётчиком, готовился, но тут вышла осечка. Его увлечение боксом и не раз переломанный на ринге нос подвели его – он не прошёл комиссию на лётчика. А поступать в другой институт уже опоздал. Что делать? Идти пока что работать, решил он. Тракторный завод рядом, да и временно это всё, в следующем году всё ровно поступит. А следующего года не получилось, не успел Пётр поступить, его призвали в армию.
О службе в армии, далеко не лёгкой службе в десантных войсках Пархомчик вспоминает с особой теплотой и благодарностью судьбе:
– Из двух лет службы чуть больше полгода, может, наберётся период казарменной дислокации, а всё остальное время в лесах, на полигоне, в самолёте. Налетался вдоволь! Юношескую мечту стать лётчиком хоть частично осуществил. Гоняли нас как сидоровых коз, но я очень благодарен своим командирам. Вернулся со службы я совсем другим человеком – армейская закалка дорогого стоит и очень потом в жизни помогает. Особенно – быть членом команды.
Ах, мне ли не знать, что такое служба в Советской армии в то время! Мне было восемнадцать лет и одна неделя, когда получил на руки повестку прямо в военкомате, куда я уже три раза приезжал, просил призвать; и через месяц уже прибыл в Чехословакию, где только что была подавлена попытка госпереворота, так называемая Пражская весна в 1968 году; где зимой приходилось жить в холодных палатках, по утрам отрывая друг другу примёрзшие к палатке волосы; где в основном питались сухим пайком с сухарями; где по ночам копали окопы для гаубиц, разбивая ломами и кирками мёрзлую каменистую землю на Карпатах; где пацаны получали обморожения рук, ног и выходили из строя…
Пётр Александрович рассказывает, а я слушаю и улыбаюсь, ловя себя на мысли, как же были похожи житейские тропы тогдашних молодых людей. После службы я тоже устроился работать на завод в Минске, и он устроился обратно на свой тракторный завод. Только уже зубошлифовщиком – профессией, которой по всей стране могли гордиться не более двух-трёх десятков человек. Очень трудная в освоении, очень ответственная работа, в которой есть сотни нюансов, и без высокой профессиональности и ответственности, – что тут уже говорить! – без качественных мозгов в голове её невозможно освоить. Зато платили очень хорошо, даже слишком хорошо. Пархомчик освоил эту профессию и получал за свою качественную работу даже больше самого директора завода – триста пятьдесят, а бывало, и четыреста с лишним рублей!
– Когда показывал друзьям свой партбилет со взносами по пятнадцать и более рублей, они поверить не могли, что я столько зарабатываю.
И всё же Пётр поступил в институт, но уже заочно. Во-первых, к тому времени у него появилась семья, а во‑вторых, он уже настолько сросся с заводом, что посчитал невозможным расстаться с ним. И всё у него было хорошо, он был доволен своей работой, семья была довольна его заработками, и он не собирался, во всяком случае пока, менять что‑то в своей жизни.
Но тут подули шальные ветры горбачёвской перестройки. Одним из новых веяний этих ветров была форма выбора руководителей среднего звена. И на участке, где трудился зубошлифовщиком Пархомчик, состоялось собрание по выборам мастера участка. Все единодушно выбрали молодого, но уже опытного, талантливого, коммуникабельного коллегу, даже не оставив ему выбора. Опять же, на участок прибывали современные станки для производства новых, сложных деталей, и нужен был грамотный, толковый руководитель, чтобы мог разбираться во всем этом хозяйстве. А тут как нельзя лучше подходит кандидатура Пархомчика: учится в институте, грамотный, в коллективе его уважают и даже любят. Да, он потерял в зарплате почти в два раза, но и не мог не оправдать доверие своих же коллег, друзей. А дальше уже всё пошло по накатанной дорожке.
Молодого и талантливого парня заметили в верхах и довольно скоро включили в список перспективных руководителей. Мастер, начальник участка, замначальника, начальник цеха… За тридцать лет работы на тракторном Пархомчик протоптал все без исключения ступени служебной лестницы и дошёл до самого верха – стал директором Республиканского унитарного предприятия «Минский тракторный завод», а затем и первым заместителем генерального директора производственного объединения «Минский тракторный завод». И везде, на всех ступенях он оставлял следы своего творческого подхода к делу как талантливый руководитель. А ещё он оставил и добрую память о себе.
Теперь, я думаю, дорогой мой читатель, тебе должны быть понятны логика и мотив решения властей о назначении Пархомчика Петра Александровича генеральным директором столь значимого для страны завода БелАЗ в столь трудное в экономике страны время. Только вот как это было технически, технологически? И как это, в сущности, происходит в высших эшелонах власти? Мне это стало интересно, и я спросил об этом Петра Александровича.
– Да ничего особенного. Позвонили, пригласили, указали кабинеты, где пройти собеседование, вручили в руки «бегунок», если так по-простому говорить. Меня практически не спрашивали, согласие моё тут априори считается данным, потому что руководители такого уровня уже не принадлежат или почти не принадлежат себе; они принадлежат государству, народу. Ты можешь это сделать, и поэтому ты обязан сделать.
– А как семья отнеслась: супруга, дети? Это всё‑таки другой город.
– Дети у меня уже взрослые, самостоятельные. А супруга уже давно привыкла к тому, что мало видит меня, что я практически живу на производстве, и отнеслась спокойно. Слава богу, у нас за почти полвека совместной жизни никогда не было проблем. Ещё с детства мы с женой были знакомы, жили рядом, наш дом, её с родителями дом, и родители наши вместе работали на заводе.
Итак, БелАЗ. Первый же рабочий день нового директора начался со странных, незнакомых по прежней работе вещей, которые привели его в полное недоумение. Сидит он у себя в кабинете на третьем этаже. Вдруг слышен шум, топот через стенку. Что это такое? Пройдя через приёмную, Пархомчик открывает дверь в коридор, а там бегущая колонна работников завода.
– Слышу в коридоре топот, как будто табун лошадей бежит. Я подумал, может что‑то случилось, и выхожу в коридор, а там толпа людей, что дверь невозможно было открыть. Это такой поток со всех кабинетов. Для меня это было шок! Смотрю на часы – только пять минут пятого. Захожу обратно в кабинет, звоню одному заместителю, второму, третьему – длинные гудки, но никто не отвечает. Всё, конец рабочего дня!
На следующее утро Пархомчик собрал в своём кабинете всех заместителей, начальников служб и объявил, что так больше не будет. И чтобы все явились на работу в семь часов утра и уходили с работы только с его разрешения.
– Десять минут пятого – и уже никого нет на работе! Это вообще как? – недоумевал директор. – Всё у нас так хорошо? Все вопросы решены, если в четыре часа вы все покидаете свои рабочие места? У нас у всех ненормированный рабочий день, и завод платит нам за это хорошую зарплату. Все мы на одном корабле, и всем надо вместе грести, чтобы корабль плыл.
И вот начался лом, люди стали понимать, что установлен уже совсем другой график работы. Не сразу всё поменялось. Нехотя, медленно, скрепя сердце, но постепенно стали уже активнее работать.
2007 год. После смерти СССР ещё далеко не все связи коопераций восстановлены, на плечах завода тяжёлым грузом висит многомилионный валютный кредит, заработная плата упала, текучесть кадров высокая, ушёл с завода Прима Виталий Александрович, отвечающий за планово-экономическую службу, ушёл Боглаев Владимир, некоторые оставшиеся преданные заводу работники тащат на своём горбу по две, по три должности, и в это время всё руководство завода оставляет директора одного со всеми проблемами – мол, ты директор, вот и работай до глубокой ночи, решай всё и за всех. Тут директор понял, что нет пока у него здесь единомышленников, нет поддержки, нет команды. Руководитель, привыкший к высокой организованности и дисциплине на прежнем месте работы, в структуре производства военной продукции на тракторном, не сразу понял, как тут люди, руководство, работают.
У него был многолетний опыт организации производства и создания условий для работников, для рабочих завода. И стал он применять этот опыт. Одной из главных задач стало перед ним создание приличных бытовых условий для рабочего человека.
– Когда я походил по заводу, увидел грязные запущенные гардеробы, представил себе того же токаря, фрезеровщика, которого эта атмосфера постоянно угнетает. У него же сразу падает рабочее настроение. Это как? Как он должен работать? И как мы должны с него требовать высокой отдачи, если он ходит на работу как в наказание? На работу он должен приходить как к себе домой и начать рабочий день в хорошем настроении.
Собрал новый директор руководителей и объяснил им, что рабочий, который переодевается в таких условиях, не может сделать качественную работу. Бытие определяет сознание. Ты ему говори что угодно, но, если он сидит в сарае, он в принципе не может создавать алмазы, бриллианты – тем более. Даже цвета в этих гардеробах были какого‑то угнетающего оттенка. Да что тут скрывать, выглядели они как свинюшники.
Это всё Пархомчик знал по себе ещё с тракторного завода, где на производстве военного назначения рабочие ходили чуть ли не в белых рубашках. Их там так и называли – «белые рубашки». У них там всё блестело и сверкало как у кота яйца, простите за выражение! Не дай бог кому стружка попадёт в подошву, он мгновенно получал наказание по полной.
– Я научился на тракторном заводе в Минске, я сформировался там, вырос, состоялся, набрался опыта, а всё, что сделал на БелАЗе, – это было уже производное. А на БелАЗе я реализовал себя по полной и получил большое удовлетворение от этого.
Да, Пархомчик Пётр Александрович сделал на заводе колоссальную работу, вывел завод на совершенно новый уровень производства, и не только. Городу он оказал тоже огромную помощь. Реконструировал старый стадион, добавив большущий навес над трибунами и создав лучшие условия для футбольного клуба; отремонтировал бассейн в ФОКе, который уже разваливался; Дворец культуры довёл до современного уровня, тоже отремонтировав по требованиям времени. Завод сегодня в буквальном смысле вылизан – об этом, о том, как завод вылизан, я ещё напишу ниже. Социальный пакет – один из лучших в республике. И только после всего этого не только у работников завода, но и у жителей города появилось нормальное, уважительное отношение к генеральному директору завода.
Да, всё это пришло со временем, а в самом начале стало понятно, что помогать ему никто особо не проявлял желания. Но он не только не опускал руки, но и действовал уверенно, заряжая и других своей уверенностью и правотой. Часто действовал по обстоятельствам, но и знал, что время и правда на его стороне и что совсем скоро всё исправится. Пархомчику понадобилось всего полгода, чтобы создать команду, зажечь её своим огнём созидания, крайне необходимым для решения задач по выживанию завода в то время. Кого‑то нашёл на заводе, кого‑то пригласил со стороны, а с кем‑то просто поговорил и объяснил, как теперь необходимо будет работать.
Желающих работать в команде оказалось даже больше, чем ожидал новый директор. Но не всем давались легко новые правила игры, новые правила нового директора. Где‑то пришлось ломать их привычки, а где‑то и объяснить и своим примером показать новые методы работы. И люди стали видеть и понимать, что установлен совсем другой график работы. Сделал дело – гуляй смело, а не сделал – будь в строю, пока не сделаешь. И только после того, как Пархомчику удалось наладить работу, завод быстро освободился от ярма кредитов и зашагал уверенно в будущее. Некоторые из тех, кто писал тогда анонимки, позже попросили прощения и продолжили работать в команде без всяких последствий и преследований со стороны директора. Он сразу прощал их и никогда не упрекал.
Итак, адаптация и притирка позади. Команда к концу года укомплектована, началась нормальная результативная работа, и первый же квартал восьмого года завод закрывает успешно, но беда пришла, откуда её не ждали, – в августе того же восьмого года случился серьёзный кризис. Нет, не на заводе, не по вине руководства, а из-за внешних факторов. Кризис начался во всём мире, и это не могло не отразиться на работе завода. Более того, он продолжался и в девятом году. Помощники докладывают директору, что нет заказов, что никто не контрактуется. Продажи упали, доходы снизились, а это, в свою очередь, давало благоприятную почву для анонимок, и полетели они опять – смотрите, мол, как всё плохо, не реализуется техника.
Она и в самом деле не реализовалась по причине тех же внешних факторов. Пархомчик опять не обращал внимание на эти доносы и на самих стукачей, а продолжал занимался делом. Думал, искал и решил. Создал аналитическую группу, пригласив туда и учёных – специалистов по прогнозированию рынка на предстоящие годы. Они нашли закономерности развития рынка и дали рекомендации, куда, в каком направлении следует двигаться дальше. Это помогло заводу. По этим рекомендациям в ускоренном режиме составили программу мероприятий, стали её реализовать и выстояли, выжили и опять пошли в рост.