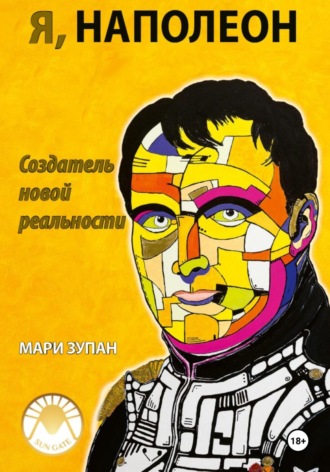
Полная версия
Я, Наполеон: Создатель новой реальности
– Святой отец, от имени старейшин я пришёл просить вас написать письмо во дворец.
Отец Николай закрыл сундук и запер его на большую железную защелку. Он повернулся к деревенскому старосте. Ему было известно о причине его прихода. Он жил среди крестьян и видел, как из года в год зимой они замерзают и голодают. Сам священник предложил написать письмо во дворец, в котором с величайшим уважением сообщили бы императрице о тяжелом положении крестьян и смиренно попросили о помощи.
– Это решение было принято на собрании? – спросил поп.
– Да, единогласно, – ответил староста и добавил: – Мы хотим сообщить Её Величеству и ещё кое-что.
Отец Кати рассказал священнику о жестоком обращении помещика из соседней деревни, о котором говорил отец Петра, и о продаже его племянника. Поп подошёл к окну и задумчиво, глядя на улицу погладил свою длинную бороду, которая доходила ему до груди. Закон не запрещал помещику так жестоко обращаться с крестьянским мальчиком. Наказан помещик был бы только в том случае, если бы убил крепостного.
– Вы не можете жаловаться на действия помещика, – сказал священник. – Жалобы на дворян запрещены законом, и нарушение этого закона карается поркой. Ты это знаешь, Дмитрий?
– Знаю, – решительно ответил староста. – Но я больше не могу молчать. Я не боюсь угроз и наказаний. Но я боюсь слёз наших людей.
Хотя он хорошо знал, что слова императрицы – это закон и, что её глаза видят каждый уголок страны, он не мог смириться с тем, что господа «оставляют им такие тонкие куски хлеба, что сквозь них видно заходящее солнце». Он не хотел вызывать гнев императрицы своим письмом. Если бы его жизнь могла облегчить беды других, он без раздумий отдал бы её. Но его жизнь ничего не стоила, и за неё никто не дал бы и ломаного гроша. Голосом, который пытался побороть собственную беспомощность, он продолжил:
– Когда я вернулся в деревню десять лет назад, у меня была одна мечта – жить в тишине и покое. Служа в армии, я постоянно жил в страхе за свою жизнь. Нас отправляли в бой, и мы даже не знали, за что мы воюем. Я убивал, чтобы не быть убитым. Через шесть лет службы я тяжело заболел. Мои ноги будто свинцом налились, и с каждым вдохом я так задыхался, что голова перестала меня слушаться. По ночам меня преследовали кошмары, я видел погибших друзей и убитых мною врагов. Я попросил об отставке, потому, что больше не мог убивать. И не мог жить в страхе перед завтрашним днём. Но дома я столкнулся с другим врагом. Теперь я не боюсь за свою жизнь, но я боюсь за жизнь своей жены, детей и односельчан. Это тяжелее, чем когда я смотрел смерти в глаза на поле боя. С болью в сердце я смотрю на страдания однодельчан. Все они привыкли к тяжёлому труду. Каждый день, без выходных, мы работаем с утра до ночи. Но сколько бы мы ни работали, у нас всё равно ничего нет. У нас забирают всё, и при этом обращаются с нами, словно мы ничто. Да, у нас овечьи шапки, но у нас есть и человеческие души. А господа потом еще дивяться, почему это беднякам жизнь не в радость – многие не выдерживают, ломаясь под гнётом страданий.
Священник понимал чувства Дмитрия. Если десять человек налегло на одного, тому, кто находится в самом низу, тяжелее всего. Но что остаётся бедному крестьянину? Если бы он мог сбросить хотя бы одного из тех, кто на него давит сверху, он бы это сделал. Но что, если судьба не дала ему такой силы? Ведь от судьбы и на коне не ускачешь.
– Дмитрий, страдание – часть жизни, и его не избежать. Никому. Даже господам. Ты думаешь, что они не страдают? Жизнь испытывает нас всех по-своему. Но знай, только тот, кто смирится со страданиями на Земле, будет спасён на небесах.
То, что только через страдания можно достичь спасения, крестьяне слышали в церкви и знали очень хорошо, так, что им порой казалось, что они должны сами стремиться к страданиям. Но мысль о том, что и господа страдают, казалась старосте такой же вероятной, как то, что кузнец сможет выковать мозги тому, кому их сам Бог не дал. С чего бы это господам страдать, если у них есть все блага мира, думал он.
– Я бы, пожалуй, согласился пострадать с полным желудком, но не с пустым, – упрямо ответил староста. – Я бы, согласился пострадать, как князь страдает.
– Если бы Бог назначил тебе жизнь князя, ты бы и был князем. Но Он дал тебе жизнь крестьянина, и ты должен это принять. Ибо, если ты жаждешь жизни и богатства другого, ты уже живёшь в аду. Пустая надежда – как молоко, если оно стоит слишком долго, оно скисает, – добавил поп. – Кстати, о молоке. Сегодня я ещё ничего не ел. Садись, Дмитрий, поешь со мной.
Священник подошёл к шкафу рядом с сундуком и открыл его. Пахнуло сушёной рыбой. Пока он раскладывал на столе хлеб и огурцы, староста спросил: – Значит, я не должен стремиться к лучшей жизни?
– Послушай, Дмитрий. Если постоянно думать о том, что живёшь хуже других, то постоянно будешь недоволен своей жизнью. Представь, каждый день ты мечтаешь быть кем-то другим, и каждый твой день становится беспокойным, как буря на Ладожском озере. Но если ты примешь свою жизнь такой, какая она есть, ты перестанешь воспринимать её как страдание. Тот, кто смиряется со своей жизнью, получает небеса уже здесь, на Земле. Вот, возьми, ешь!
Отец Кати поблагодарил и взял меньшую из двух рыб, которые отец Николай выложил на стол. Он отломил кусок хлеба. Поп тоже начал есть. Отправив в рот кусок хлеба, поп продолжал:
– Каждый мечтает жить как князь. Но можем ли мы все быть господами? Господа богаты только вашим трудом, ведь это вы заботитетсь о том, чтобы на их столе был хлеб. Беда в том, что они слишком превозносят свое дело, считая крестьянский труд менее важным. А тот, кто считает своё дело важнее, вскоре начинает думать, что он сам тоже важнее, чем другие. Однако, каждый вносит свою лепту в общее дело, и любая работа – почетна.
– Чудеса лишь для тех, кто в них верит, – сказал отец Екатерины. – Я знаю только то, что белым рукам мозоли приятны лишь, когда они на чужих руках. Господам хорошо, потому что они думают только о том, что нужно было бы сделать. Но одним размышлением камень с дороги не убрать. А камни эти убираем мы, притом каждый раз, когда господам того захочется. Да и камень этот чаще всего – не камень, а целая скала. Господам же, что камень, что скала – все едино. Им никогда не приходилось двигать ни того, ни другого. А мы всю свою жизнь таскаем мешки, полные камней, и хорошо знаем их тяжесть. Господа же только смотрят, не зная веса того мешка.
– Дикая роза тоже имеет шипы, Дмитрий. Бог испытывает и господ. Если Бог ставит за главного кого-то с достаточными средствами, а этот кто-то спускает все деньги лишь на свою удобную и роскошную жизнь, не помогая общине, его дела плохи. Если же он ещё и жесток к людям, врата небесные для него будут закрыты.
– Я не понимаю, святой отец, – сказал староста. – Вы всегда твердите нам, что Бог нас любит, что его любовь повсюду. Почему же тогда Бог допускает столько насилия?
– Допускает или не допускает насилие не Бог, – сказал отец Николай. – Это наш выбор и наша ответственность. Бог не в ответе за человеческое невежество. Он дал нам свободу воли, и каждый решает по совести, как поступать.
– Но помещики ссылаются на Божью волю, когда вершат над нами насилье.
– Ссылаться на то, что наши насильственные поступки связаны с волей Божьей, – это обман. Прежде всего, обман себя. Насилие или войны во имя Господа – один из самых тяжких грехов, которые только можно совершить.
У старосты в зубах застряла рыбья кость. Он вытащил её и вытер пальцы о штаны.
– Как я понимаю, если бы я собрался навестить всех грешников, мне бы целой моей жизни не хватило, – сказал он. – А вот если бы пришлось обойти всех святых, сильно бы не утомился.
– Ты все видишь только в черном свете, Дмитрий, – сказал священник. – Давай-ка для начала позаботимся о том, чтобы письмо дошло до императрицы. Надо написать так, чтобы соблюсти букву закона. Сегодня же сяду и начну писать.
***
Осеннее солнце купалось в водах Невы, освещая величественные здания, возвышавшиеся на её набережных. Мраморные дворцы поднимались как театральные декорации над рекой, каналами, рвами и упорядоченной сетью проспектов, площадей и парков. Город Санкт-Петербург вырос на реке Неве по желанию и приказу Петра Великого восемь десятилетий назад, и вскоре на её гладкой поверхности уже отражались черты барочной архитектуры, характерные для других европейских городов.
Самый большой в городе – Зимний дворец – резиденция императорской семьи, поражал воображение сотнями окон и колонн, одиночных или тесно сгруппированных, а всё убранство его фасада украшали белые выступы во всю длину и позолоченная лепнина. Во дворце насчитывалось более тысячи комнат. Внутри стены были отделаны мрамором, малахитом, яшмой и другими полудрагоценными камнями. Дверные и оконные рамы, а также мраморные колонны украшали детали из меди и золота. Мебель была сделана из ценных привозных пород дерева, с украшениями из драгоценного камня и позолоты. С потолков свисали огромные хрустальные люстры, комнаты, коридоры и лестницы были декорированы богатыми гобеленами, статуями и картинами. Дворец излучал могущество государства и его правительницы.
Екатерина Вторая сидела за рабочим столом и читала письмо священника о тяжёлых условиях жизни крестьян, когда слуга объявил: «Господин Фредерик де Ла Гарп, Ваше Величество.»
– Пусть войдёт, – приказала императрица. Она открыла ящик рабочего стола и положила туда письмо. Этими делами она займётся позже. В России всё идёт своим чередом. С тех пор как она взошла на престол, экономика процветает, деревенские дома строятся лучше, чем когда-либо, зимой почти нигде не встретишь босоногого ребенка, всего везде достаточно. Народ даже не знает, что страна находится в состоянии войны с Турцией. Люди беззаботно читают молитвы, танцуют и веселятся.
В комнату уверенной походкой вошёл мужчина тридцати лет, с приветливым лицом. Он низко поклонился.
– Подойдите ближе, – пригласила его императрица. Ла Гарп подошёл.
– Не перестаю восхищаться красотой этих коридоров и комнат, – вежливо сказал он, окинув взглядом комнату.
Императрица рассмеялась. – Иностранцев это всегда удивляет, когда они попадают во дворец. А знаете, почему? Ла Гарп почтительно молчал, и императрица сама ответила на свой вопрос.
– Потому что они считают нас варварами, – сказала она с лёгким оттенком разочарования, но с гордостью в глазах. – Французы, англичане, Габсбурги и пруссаки – все они считают нас варварами. Но, приехав в Санкт-Петербург, они изумляются тому, что видят. Они понимают, что мы живём в могущественной стране, которая по силе и мудрости вполне сопоставима с их странами.
Она взяла изящную чашку китайского фарфора и отпила глоток кофе. – Не пора ли уже покончить с привычкой клеветать и оскорблять другие страны, месье Ла Гарп?
С тех пор как Екатерина Вторая взошла на престол, она старалась выглядеть сильной в глазах иностранцев. Так ей было легче оборонять страну от чужих амбиций. И поскольку она знала, что внешний вид – первое, на что обращают внимание, она не скупилась демонстрировать показное богатство.
– Если этим страна покупает себе мир и уважение соседей, то ни один рубль не потрачен зря, – повторяла она.
– Думаю, что пришло время освободиться от предрассудков по отношению к другим странам, – подтвердил Ла Гарп. – Мы могли бы избежать множества преступлений, войн и прочих бед, если бы воспринимали людей вне зависимости от их привычек и обычаев. Скольких ужасов бы не произошло, если бы люди освободились от страха, порождающего стремление превозноситься над другими. Деление народов и людей на лучших, достойных и худших, недостойных, – это ловушка, в которую попадает та часть общества, которая хочет быть всегда права и стремится господствовать.
– Именно из-за этого вечного человеческого стремления к господству стране необходим мудрый правитель, который сможет умело вести внешнюю политику. Только так он сможет обеспечить себе спокойствие и мир, для выполнения своего предназначения и обеспечения процветания и изобилия для всех жителей. И об этом я хотела бы поговорить с вами. О воспитании и обучении великих князей в этом году, – сказала императрица.
– К вашим услугам, Ваше Величество.
Фредерик де Ла Гарп последние три года был учителем Александра, наследника престола, а также его младшего брата Константина. Учитель был родом из Швейцарии, по профессии юрист. Императрица пригласила его ко двору, так как хотела, чтобы Александр стал первым русским императором, воспитанным в современных западных традициях. С малых лет он получал тщательно планируемое воспитание и лучшее образование в стране. Императрица достала из ящика учебный план и передала его учителю. Ла Гарп его изучил и внес свои предложения.
– Великий князь продолжит изучение немецкого, английского и французского языков, – сказал он. – Особое внимание в изучении французского будет уделено правильности произношения, поскольку очень важно, чтобы будущий император свободно говорил на этом языке. Также он продолжит учить русский, чтобы лучше понимать язык своего народа. В этом году на уроках географии будет уделяться большее внимание изучению России, как и на занятиях по истории. Знание географии и истории своей страны – основа, необходимая любому правителю для успешного взаимодействия с подданными. Кроме русской истории, он мог бы начать изучение истории других стран.
Императрица согласилась и предложила продолжить чтение Вольтера, Дидро, Алгаротти, Ньютона и Гиббона. Она сама очень любила читать этих авторов, а с некоторыми из них даже состояла в переписке, оказывая адресатам финансовую поддержку.
– И Руссо тоже? – спросил учитель.
– Конечно, – ответила императрица.
Учитель был хорошо знаком со всеми упомянутыми авторами. Он был сторонником революционного движения во Франции и с одобрением относился к народным восстаниям в Швейцарии. Идеи о естественных правах человека, свободе и равенстве были и ему очень близки. Императрица хотела, чтобы эти идеи он обсуждал также с юным Александром.
– Предлагаю, чтобы материал подавался ему естественно, чтобы вызвать у него непосредственный интерес. Без принуждения и наказаний. Страх – плохой учитель, – считала императрица. – Пусть он также занимается физкультурой, продолжайте обучение плаванию, верховой езде и фехтованию.
– Будет исполнено, Ваше Величество, – с поклоном отвечал Ла Гарп.
Императрица взяла со своего стола какую-то тетрадь.
– Я хочу, чтобы вы также включили в уроки мои сочинения. Она подала учителю тетрадь, в которой записывала свои мысли и истории, которые считала важным использовать в воспитательных целях для занятий с её внуком. Таких записей было более двухсот. Учитель взял тетрадь и, поклонившись, поблагодарил.
– На сегодня всё. Вы свободны, господин Ла Гарп, – распорядилась императрица.
Слуга открыл дверь, и учитель направился по коридору. На этот раз он не смотрел по сторонам на роскошную лепнину и фрески. Он разглядывал тетрадь императрицы – ему было любопытно, чему он должен будет учить будущего царя. Прямо на ходу он начал перелистывать страницы. На первой же странице рукой императрицы было выведено: «Перед Богом мы все равны.»
***
Роскошные кареты, запряженные четверками лошадей, останавливались на набережной Фонтанки (одного из каналов реки Невы) на широкой подъездной аллее перед Шереметьевским дворцом. Гости оставляли меховые шубы в гардеробе внизу, а затем поднимались по лестнице в зал для приёмов, где их встречал хозяин, Николай Петрович Шереметьев. На нем был расшитый золотом придворный мундир из кашемира коричневого цвета. Как всегда, он был одет по последней моде – одежду он заказывал у парижских портных, тех же, что шили для Версаля.
Шереметьевы были самой богатой, после императорской, дворянской семьёй России. Основой их богатства были царские дары, полученные ими за их верность правителю на протяжении многих поколений. Эта верность включала в себя не только военную службу, но и образ жизни по европейскому образцу, предписанному ещё Петром Первым: подразумевалось, что они должны жить в роскошных дворцах, полных привозной мебели и произведений искусства, организовывать щедрые балы и пиршества по европейским канонам, соблюдать строгие правила поведения и взаимоотношений. Молодых дворян и дворянок обучали бонтону с детства.
В салоне дома на Фонтанке в этот вечер собрались самые важные люди страны. Дамы, в платьях на корсетах, в париках и в туфлях на высоких каблуках блистали красотой и элегантностью. Мужчины вели себя учтиво, целовали дамам руки, в ответ на что дамы приседали в балетном реверансе. На галерее играл оркестр, не заглушая любезные разговоры гостей, которые велись на безупречном французском.
В соседней комнате прислуга заканчивала последние приготовления, доводя до совершенства сервировку столов, расставленных в форме буквы «П». На белых скатертях красовались позолоченные тарелки из китайского фарфора и позолоченные приборы, привезённые из Франции. Гости изящно поднимали хрустальные бокалы на золотых ножках. Белые розы в цветочных композициях на столах и на специальных подставках у стен изящно дополняли общую картину утончённости, а свечи в букетах перекликались с тысячами свечей в люстрах на потолке и стенах.
Хозяин, Николай Петрович Шереметьев, решил устроить прощальный ужин для своих друзей в городе, так как зиму он собирался провести в Москве. Такие собрания были частыми мероприятиями в мире знати и длились обычно по несколько часов. Но пиры у Шереметьевых все же отличались от других, являясь истинным праздником для глаз и желудка. Граф всегда старался произвести впечатление на императрицу и остальное столичное общество. Он регулярно закупал вино и шампанское во Франции, шоколад, кофе, молочные продукты и табак в Голландии, а пиво ему привозили из Англии. На этот раз в меню было семь видов супов, пятьдесят два мясных блюда – от птицы и дичи до ягнят, говядины, зайцев, поросят и козлят, двенадцать видов салатов, двадцать восемь видов пирогов, а также свежие фрукты и торты.
После приветственной речи хозяина и тоста за Её Величество гости расселись за накрытыми столами. Слуги в зелёных мундирах в напудренных париках, обутые в тапочки из конского волоса, неслышно скользили по паркету, подавая еду и напитки. Сначала принесли закуску – икру и щёчки сельди. Расставив блюда с едой и наполнив бокалы, слуги пятясь, выходили из зала.
Гости начали тихо беседовать между собой. Императрица, после вопросов о недавнем военном конфликте с Турцией и заверений, что российские войска успешно защищают атакованную территорию, обратилась к сидевшему рядом с ней князю Столнову.
– Как обстоят дела с производством и продажей полотна в этом году? – поинтересовалась она. Князь был одним из крупнейших производителей конопли и льна, которые он экспортировал в Англию по Балтийскому морю.
– Очень хорошо, – ответил князь. – В этом году спрос вырос, так как англичане обновляют свой флот, – сказал он с довольным выражением лица. Англичане закупали у него парусину для своих кораблей.
– Ожидается, что экспорт в этом году будет, как минимум, на десять процентов выше, чем в прошлом, – добавил он.
– Используете ли вы новые устройства, которые появились в Англии? – спросил граф Шереметьев, слышавший уже о паровых машинах, которые выполняют тот же объём работы быстрее и с меньшими затратами труда.
– Нет. Сомневаюсь, чтобы эти машины были нам полезны, – ответил князь Столнов.
– Я того же мнения, – сказала императрица. – Я слышала о гигантских устройствах, которые начали использовать в Англии, но не хочу видеть их в своей стране. Их внедрение уменьшит потребность в рабочей силе, и люди останутся без работы. Эти колоссы и Англии не принесут ничего хорошего.
– Машины облегчают тяжёлый труд, который рабочие сейчас выполняют вручную, – вмешался в разговор англичанин Дэвид Тейлор, сидевший рядом с князем Столновым. Тейлор был молодым философом и историком, приглашённым на русский двор год назад. Императрица регулярно приглашала иностранных учёных, с которыми обсуждала современные взгляды на управление.
– Машины освобождают не только руки, но и тела тоже, – добавил он. Летом, путешествуя по России, он видел, как десяток мужчин, впряжённых, словно скот, тащили брёвна вверх по реке. Толстые верёвки, к которым были привязаны тяжёлые стволы, сопротивлявшиеся течению реки, лежали на их плечах. Рабочие держали концы верёвок в руках, стараясь смягчить давление на плечи, на которых верёвки, глубоко врезаясь в кожу, оставляли кровавые борозды. Ритм их движениям задавал кнут, время от времени хлеставший того, чья верёвка была недостаточно натянута. Один из работников, не выдержав, упал от изнеможения, и его оставили прямо на берегу реки, заменив другим – человеческая жизнь там не имела никакой ценности.
– Мои работники трудятся так, как привыкли. Они не любят перемен, – ответил князь.
Слуги, которых было больше, чем гостей в зале, принесли новые блюда. На подносах, расставленных по столам, лежали запечённые медвежьи лапы, жареная рысь и лосось.
– Полностью согласен с вами относительно привычек наших крестьян, – присоединился к разговору князь Мосолов. На своих землях он выращивал рожь и пшеницу, экспортируя зерно за границу. Ранее экспорт зерна был запрещён, но при Екатерине Второй его разрешили, и зерно стали активно вывозить на Запад. – С работниками трудно. Они сопротивляются всему новому. Помните, ваше величество, когда мы несколько лет назад пытались ввести у нас новый овощ, неприхотливый и хорошо сохраняющийся зимой?
– Картофель, – напомнила императрица. Несколько лет назад она хотела приучить крестьян выращивать картофель, который, по данным других стран, уменьшил бы голод среди населения. В России до этого сажали репу.
– Картофель, – повторил князь и продолжил: – Мы столкнулись с яростным сопротивлением крестьян. Они сочли картофель дьявольским плодом и отказывались его сажать. А этой весной они снова жаловались, что зимой у них не хватило еды.
Собравшиеся кивали князю в знак согласия, и только господин Тейлор хотел было что-то возразить, но вовремя прикусил язык. Он слышал, что при введении этой «заморской груши» крестьянам дали письменные инструкции по поводу выращивания. Но если вручить написанные на бумаге указания людям, которые не умеют читать, вполне можно ожидать, что дело не пойдёт на лад. В некоторых местах крестьяне употребляли в пищу наземные плоды картофеля и отравились.
– Наши крестьяне недостаточно производительны. Поэтому мы выращиваем значительно меньше зерна на гектар, чем у вас в Англии, – продолжил князь Мосолов.
– Следует учитывать, что у нас более суровые климатические условия, – вмешалась императрица. – Наше лето коротко.
– К тому же, следует учесть, что английские крестьяне свободны, – вставил господин Тейлор.
– Не понимаю, как связаны производство зерна и свобода крестьянина! – раздражённо отозвался князь Столнов.
Граф Шереметьев, не обращая внимания на колкое замечание князя Столнова, обратился к господину Тейлору. – Я читал исследование вашего соотечественника о том, что свободный крестьянин гораздо более производителен. Автор утверждал, что производительность и свобода крестьянина взаимосвязаны. Вы не могли бы объяснить это, господин Тейлор? – спросил он.
Англичанин был доволен, что граф дал ему слово. С большим воодушевлением он начал:
– Человек, который лично свободен и имеет право на собственную землю, а также на то, что он на ней выращивает, гораздо более мотивирован усердно трудиться, чем тот, кто всегда имеет одно и то же – то есть, ничего – независимо от того, что и сколько он делает, – сказал он. – Это право должно быть защищено законами, которые бы действовали для всех одинаково. В составлении законов должны участвовать все сословия. Каждый должен иметь возможность выразить своё мнение. Только так можно организовать более справедливое и производительное общество. У всех должны быть равные возможности в жизни. Под Богом мы все рождены свободными и равными в правах.
К лицу князя Столнова от слов англичанина прилила кровь. – Позвольте, но эти рабы не равны мне! Не приравнивайте меня к ним! – вспылил он, едва сдержавшись, чтобы не ударить кулаком по столу.
– Прошу вас, не будем использовать слово "рабы",» – попыталась разрядить накалившуюся атмосферу императрица. – Крестьяне в России не рабы. Хотя их тела и подвержены принуждению, их дух остаётся независимым.
– Почему мы должны стыдиться использовать слово "рабы"? – продолжил князь Мосолов. – Господин Тейлор привык к рабовладельческим отношениям, ведь их колонии держатся именно на рабах. И положение их рабов хуже, чем наших крепостных. Так скажите, господин Тейлор, почему ваша страна не освобождает рабов?



