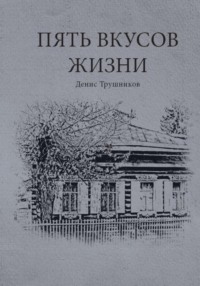Полная версия
Осенний ветер срывает листья с ив
Прибытие и повторение
На рассвете кортеж достиг переправы через реку. Вода гудела, становясь то грязно-жёлтой, то почти чёрной в местах, где глубина скрывала каменные глыбы и утаённые сучья погибших деревьев. Помост на берегу, казавшийся надёжным лишь издали, прижимался к земле, словно от стыда. Острые крики ворон тревожили свежий воздух. Не было ни толпы, ни рыбаков, ни шумных поджидающих лодочников: с двух сторон выглядывали лишь голодные дети в затрапезных синих халатах, да пара стариков, робко отводящих глаза при виде подтянутых слуг.
Мао-эр, едва рассвело, вновь появился у занавески паланкина. На его лице остывшая ночная тревога перемешалась с деловой сухостью, – как на ледяной каменной плитке неизменно образуется роса.
– Ваше превосходительство, – начал он, осторожно выговаривая каждое слово, – лодочники на переправе распускают слухи. Говорят, ночью плыли несколько незнакомых судов. Гребцы не рискнули отходить далеко к западу, боятся за своих детей.
Ли Шу не ответил сразу. Он ещё чувствовал на плечах усталость от дрожащей дороги, от внутреннего давления, что всё тянет вниз. Он подавил желание махнуть рукой, оттолкнуть мятежные мысли.
– Соберите слуг, пересчитайте груз, – коротко бросил он, – пусть охрана вооружится копьями.
Помост на берегу скрипел, когда кортеж начал движение. Ветер приносил с полей запах прелой соломы и мусора, пробирал до костей – на мгновение Ли Шу подумал, что небо висит так низко над головой, будто вот-вот раздавит всю здешнюю беспомощную землю своей сонной синевой. Самым отдалённым умом он отмечал неудержимое разложение, которое медленно, но неутолимо, вползает в любую человеческую власть и в саму ткань жизни.
Спуск к воде был крутым, луговина набухла после ночных дождей. Сапоги проваливались, оставляя неглубокие следы между чёрной травой и коричневым илом. Здесь, у самой реки, мелькнула в памяти совершенно иная переправа – весёлый голос матери в тени платана: «Сынок, вода всегда разная, а страх у всех один». Было невыносимо думать, что если теперь ты пойдёшь вперёд, то воды разом сомкнут твои мысли, унесут их в беспамятство, как унесли в детстве Чжоу и его последнюю надежду на счастье без условий.
Носильщики, полные опасливого достоинства, передавали друг другу паланкин, охранники настороженно осматривали берега. Как только Ли Шу вышел, под ногами зашуршала мокрая галька, ароматы тмина и рыбных остатков ударили в нос сильно, почти обидно, – запах растрат, бедствий и пресловутых «народных нужд». Здесь чиновник онемел бы, но не человек; здесь власть – тоньше тростника, обострённее нищеты.
К лодочнику, старому сгорбленному мужику, подошёл лично Мао-эр, предъявил ему печать, кинул блестящую монету. Лодочник поклонился, а взгляд его был не то жалостливым, не то сдавленным, – в одну секунду чиновник будто бы увидел и всю нищету низов, и бессмысленность богатства.
Когда лодка качнулась, первым ступил Ли Шу, зашёл осторожно, будто смиряясь ещё раз – теперь уже с рекой. На противоположном берегу его ждали новые вопросы, новые опасения. С каждым гребком забывалось прошлое; только в груди всё же пульсировала воспоминанием рука матери – та, что всегда вытирала заплаканные щеки, та, о которой нельзя было рассказать никому из нынешних спутников.
Противоположный берег встречал пустотой – ни вздоха, ни песни. Солнце вылезло из-за облаков резким золотым кругом, делающим грязную воду почти сверкающей; на лицо упала короткая тень, и снова Ли Шу почуял, как тяжело быть не собой, а только своим рангом, своим печатным именем в казённом реестре.
Он оглянулся назад. На миг ему показалось, что за спиной осталась не одна переправа, а вся прошлая жизнь: плечи носильщиков – уставшие, лица безрадостные, кто-то ищет взглядом редкую птицу, кто-то спасённого ребёнка среди нищих. Все ищут чего-то – а он? Он ищет оправдание, чтобы двигаться вперёд.
Когда кортеж снова выстроился гуськом, сам лозунг «служить Империи – значит служить Народу» прозвучал в памяти Ли Шу шершаво и искусственно; за ним – только пустота и пыльная дорога.
Лодки одна за другой подплывали к скрипучему трапу, имперский обоз медленно, с натужной осторожностью, переправлялся через мутные воды. На берегу, где тростник вился плотным ковром, двое вооружённых дозорных уже ожидали, всматриваясь в поднимающуюся с реки дымку. Здесь не было привычной толчеи – лишь где-то в стороне потрескивал костёр – десяток простых крестьян готовил рис, не отрывая глаз от чужаков.
Мао-эр помог Ли Шу сойти на сухое место, пригнувшись под клювом зонтика паланкина. Чиновник не удостоил его взгляда – мысли подобно зловещим облакам тяжело нависали над ним, а в голову лезли другие, почти забытые вопросы. Как разрешить их – одним ли новым законом, очередным карательным распоряжением, кровью «лихоимцев», или, быть может, впервые попытаться услышать внутренний голос?
Слуги спешно перегружали ящики, пересчитывали тюки с бумагой, мешки с крупой, ларцы с серебром и нефритом. Каждый шаг вызывал раздражение в сухожилиях Ли Шу; время будто раскалывалось на отрывки между толчками носильщиков и вялым плеском воды – он ощущал себя не столько верховным судьёй, сколько проводником забытой тревоги, несущим в себе и ответственность, и боль прошлых ошибок.
В глубине души его не оставляла странная опустошённость: только что одна опасность была пройдена – а следующая уже маячила впереди, и чем дальше он двигался, тем туже сжимался стальной обруч в груди. Всё, что казалось когда-то великим – чиновничий долг, порядок, слово начальства, – вдруг теряло свой вес, когда за спиной оставалась притихшая переправа, где голодные дети продолжали жевать холодные зёрна, а лодочник, перемахнув через трап, бросал долгий, непонятный взгляд вслед процессии.
– Дайте распоряжение разведчикам, – с глухой усталостью приказал Ли Шу. – Пусть село проверят перед заходом. Не желаю новых неприятностей.
Один из молодых помощников, мальчик по имени Чэнь, выскочил из рядов, неловко держа чиновничий свиток под мышкой:
– Господин, а нам в каком доме сегодня отдыхать? Староста из Яньцзяна сулит тёплую избу с рыбным супом…
Ли Шу даже не повернулся.
– Где меньше глаз, там и ночуем, – отрезал он. – Запомни: чиновнику пища не во вкусе, а в спокойствии.
Окольная дорога вела сквозь волнующиеся, влажные заросли, запах сырой травы тянулся давним эхом – когда-то так пахли задворки его детства. Ли Шу, покачиваясь в паланкине, смотрел на калейдоскоп прожитых лет, увиденный сквозь парусину: и теперь, как много лет назад, ему отчаянно хотелось сжать в руках тёплую пиалу, услышать знакомый голос матери, забыть о себе и о том, что он «имя на свитке», а не человек.
День клонился к вечеру, и кортеж добрался до города. Каменные ворота зияли строгой пустотой, сторожа неприветливо смотрели на приезжих, но, опознав эмблему журавля, незамедлительно распахнули створки, ритуально упали ниц перед паланкином. Ли Шу равнодушно повёл глазами по чужим спинам: церемония подчинения не тронула его – за долгие годы уважение и страх в чужих поклонах давно окаменели в его душе, стали лишь частью неизменного рисунка.
У городских ворот стоял молоденький стражник, переминаясь с ноги на ногу. Он, должно быть, ещё не привык видеть такой великолепный кортеж: взгляд его метался от вычурной заколки к тускло блестящему камню, и только когда Мао-эр повёл цепочку слуг, мальчишка сжал копьё и попытался выкрикнуть что-то про порядок.
В городе, пропитанном запахом уличных харчевен, тёмными дворами и утлой влагой, Ли Шу ничуть не ощутил себя в безопасности. Чем богаче становился городской центр, тем больше в нём виделось луж, дымящихся трещин, даже роскошные дома были похожи на тюремные камеры – всё здесь было только формой.
Он знал: вечером ему принесут списки дел, донесения на подозрительных крестьян, уведомления о казённых долгах и свитки прошений. Принесут угощения – «славный рыбный суп», жареную утку, фаршированные пироги, чашу горячего вина. Но ни одна из этих щедрот не имела значения: пища здесь – притворство, как улыбка на лице слуги; настой чая – только повод вспомнить вкус дома, который с каждым годом отдалялся, растворялся во вчерашней дымке и тени страха.
Вечер опустился быстро, оставляя над городом тяжёлое, мутное небо. В это время Ли Шу, один в просторной комнате с потухшей лампой, впервые за много месяцев позволил себе не думать о документах. Старое воспоминание опять шагнуло в сердце: он вспомнил едва уловимый аромат материнских пальцев, прикосновение – призрачное, как лёд, что не тает в ладонях. Он не плакал. Не мог уже плакать – как не может плакать камень на пустынной переправе.
Ночью он вглядывался в беспокойное дрожание фонаря и знал: завтра – первая инспекция, первые суды, первые бесстрастно вынесенные решения. Всё повторится – как всегда, и, быть может, именно в этом круге повторения и есть самое страшное одиночество.
Ли Шу долго не ложился спать той ночью. В комнате, где стены украшали фанерные доски с выцветшими журавлями и символами справедливости, он сел за резной стол с документами. Сквозь окна пробирался солоноватый воздух с рынка, где даже ночью гружёные носилки рыбаков протягивались цепочкой мимо пересохших фонтанов. Слуга, наполовину дремавший за перегородкой, вскакивал по каждому шороху, ожидая окрика, но слышал лишь приглушённый шелест бумаг.
Пальцы Ли Шу, привычно твёрдые, теперь подрагивали. Он разглядывал вложенные друг в друга дощечки с именами – свитки, где перечислялись преступления и жалобы простых жителей. Под именами мелькали просьбы: «прости долг», «верни пропавшего сына», «смилуйся над вдовой». За каждым иероглифом он будто видел не строчку, а усталое, сухое лицо, морщины, слёзы, кровь на руках и бурлящий в груди страх – тот же, что мучил и его самого.
Он вспоминал, как однажды в детстве мать принесла ему трещиноватую дощечку – «первое решение», как она смеялась тогда. На той дощечке мальчик выцарапал свой первый иероглиф судьбы: «милость». Теперь же это слово болело, как старый шрам. Он поймал себя на том, что всё труднее отличить в себе страх перед собственной жестокостью от страха быть несправедливым по закону. Весь круг жизни, все прежние иллюзии – разбивались сейчас об этот убогий, хрупкий стол, наполненный чужими судьбами.
На краю лежала табличка с именем Цзин Вэй.
«Молодой оружейник. Саботаж. Порча орудий».
Ли Шу не стал читать подробности. Он уже знал, что там будет: недовольство, жалобы, возможно, даже намёк на мятежные мысли. Но разве это важно? Закон ясен.
Перо в его руке двинулось сама собой – быстрым, резким росчерком.
«Разрывание быками».
Тушь легла чётко, без дрожи. Но в последний момент, когда он уже отводил кисть, с кончика пера сорвалась капелька. Она упала рядом с иероглифами неуместной точкой, чёрным пятнышком на жёлтом дереве.
Ли Шу замер.
Клякса.
Недопустимо. Непорядок.
Он резко прижал кисть к дощечке, размазал каплю, превратив её в новый иероглиф.
«Кол».
Теперь приговор звучал иначе: «Разрывание быками на заострённом коле».
Смерть неспешная. Смерть мучительная.
Но дощечка была безупречна. Порядок восстановлен.
Ли Шу откинулся на спинку кресла, чувствуя, как в горле поднимается что-то горькое. Где-то далеко, за стенами канцелярии, должны бежать слуги – искать быков, готовить кол. Где-то Цзин Вэй, не зная ещё о своей участи, наверное, мучается у стены тюрьмы, рассчитывая на быструю казнь, хотя бы повешение, и так, чтобы остались в живых члены его семьи. Кто там у него? Жена? Дети? Сколько лет Цзин Вэю? Разве это важно… Он – два иероглифа. А завтра – можно сжечь табличку, и нет никому дела до Вэя.
Не это имело значение.
Важнее было то, что на документе не осталось клякс.
Внезапно с улицы донёсся отдалённый крик – где-то за городским углом стража повздорила с обозным погонщиком, – и последние звуки вечернего города вонзались в его уши, как упрёк.
Мао-эр бесшумно появился на пороге, в руке – чаша с горячим настоем. Он молча поклонился, поставил чашу, хотел было уйти, но Ли Шу задержал его взглядом.
– Мао-эр, ты ведь умел смеяться когда-то?
– Я… – евнух замялся, – Ваше превосходительство, по долгу службы я смеюсь лишь тогда, когда невидим.
– Значит, смех – тоже преступление?
Мао-эр лишь опустил глаза:
– Иногда он опаснее многих слов.
Ли Шу долго сидел в полумраке своего кабинета, когда закрылись за Мао-эром двери, а на город лёг вязкий, непроглядный вечер. Пламя лампы мерцало, освещая лишь его руки, перевёрнутые бумаги, тонкую полоску нефритовой печати да старый лакированный футляр, который он годами хранил среди самых личных вещей. Этот футляр пах слабой смесью сухой земли и увядшей травы – хранитель памяти, детского магического времени, вытесненного теперь суровой прозой чиновничества. Ли Шу решился на поступок, которому давно не давал воли: потянулся к своему футляру с тысячелистником, приготовился гадать – так, как учила ещё мать. Медленно перебирая стебли, он выдохнул сквозь зубы вопрос – неведомой судьбе, будущему, матери: поступать ли по всей строгости, или вспомнить о том маленьком слове на детской дощечке? Как когда-то учила его мать, Ли Шу перебирал стебли почти молитвенно: слегка опустив голову, как бы склоняясь перед чьей-то высшей волей, он формулировал вопрос – не к небу, не к императору, а к непостижимой нити жизни, то исчезающей, то вспыхивающей в самом сердце.
Щелчок – и на столе рассыпался веер жёстких, коричневатых стеблей тысячелистника. Их сушил ещё его прапрадед: в роду Ли верили, что так лучше всего слушать мало различимый намёк судьбы.
Комбинация, выпавшая под его руками, напоминала череду разбитых судеб и молчаливую силу смирения.
– Поступить по всей строгости, или попытаться пробудить то самое слово – «милость», что выцарапал он однажды на узелковой дощечке? – выдохнул он, и голос в пустой комнате показался слишком старым и слабым.
Началось гадание: осторожное, уравновешенное перебирание стеблей, разделение на кучки, – всё согласно древнему счёту, до боли знакомое движение пальцев. Он ловил каждый шорох сухой травинки, замирание сердца в тот миг, когда результат уже нельзя повернуть вспять.
Ли Шу сверился со свитком гексаграмм. Узор предсказания был странен, тревожен. В начале девятка. Поражение света: у него в полете опускаются крылья. Благородный человек в пути по три; дня не ест, но ему есть, куда выступить, и его господин будет говорить о нем.
Шестерка вторая. Поражение света: он поражен в левое бедро. Нужна поддержка, мощная, как конь.
– Счастье!
Девятка третья. Свет поражен на южной охоте. Но будет получена большая голова. Нельзя болеть о стойкости.
Шестерка четвертая.
Вонзится в левую часть живота.
Сохранишь чувство поражения света, когда выйдешь из ворот и двора.
Шестерка пятая.
Поражение света цзи-цзы.
– Благоприятна стойкость.
Наверху шестерка.
Не просветишься, а померкнешь. Сначала поднимешься на небо, а потом погрузишься в землю.
В древних толкованиях этот знак сулил не только трудности, невидимую опасность, но и подспудную угрозу: каждый шаг вперёд совершался по острым камням, а за храбростью караулила не победа, а потеря, отягощённая виной. Часто говорили: «Упрямый путник на таком мосту теряет самое дорогое – чтобы остаться хотя бы собой».
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.