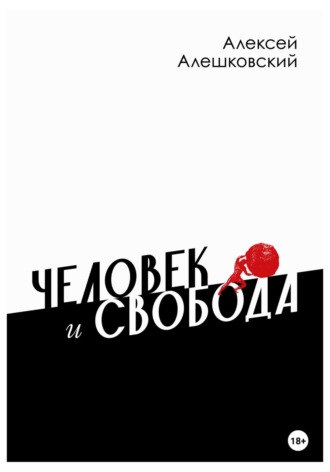
Полная версия
Человек и свобода. Дневник реакционера
Недавно Сергей Лойко в прямом эфире вывел Андрея Норкина из строя утверждением, что майдан – это состояние духа свободного человека, а россиянами движет психология рабов. Наш ведущий пропагандист к обсуждению этой вяленой дихотомии оказался не готов, хотя от бесконечного майдана соседям пришлось на этот раз отказаться в пользу стандартной электоральной процедуры. «Мечта рабов: рынок, на котором можно выбирать себе господ», – ехидничал в социалистической Польше Станислав Ежи Лец.
То, что в гибридной войне пикейных жилетов манипуляция заменила рефлексию, неудивительно. Мемом можно убить, мемом можно спасти, мемом можно полки за собой повести. Каждой из сторон давно пора составить справочник пропагандиста, где в левой колонке будут записаны аргументы оппонентов, а в правой – самые забористые контраргументы. Как в той байке про мужиков, которые запарились слушать друг от друга одни и те же анекдоты, и решили их пронумеровать. Чтобы потом достаточно было сказать: двадцать шестой! И начинать ржать.
Переубеждать кого-либо в чем-либо – занятие глубоко бессмысленное. Раньше мне казалось, что отсутствие уважения к чужому мнению – имманентная характеристика советского человека, но теперь стало очевидным, что флагманские демократические общества страдают той же болезнью: достаточно посмотреть на американских либералов. Уж не знаю, от наших ли они заразились, но, в отличие от классического, современный «либерал» защищает права и свободы от граждан, которые их недостойны. Тезис о русском рабстве довольно спорен для страны, прославившейся бессмысленностью и беспощадностью своих бунтов. Осмысленным и вегетарианским стал разве что август 1991-го, когда «русские рабы» постелили красную дорожку свободы союзным республикам, уже готовым откозырять похмельным вождям августовского путча. Свобода действительно преображает людей, и самым удивительным образом. Сейчас, например, в авангарде Сил света можно встретить без устали бичующего кровавый режим Игоря Яковенко, который в самые глухие годы застоя верно служил заведующим отделом пропаганды и агитации Дзержинского райкома КПСС г. Москвы.
«Татарский часто представлял себе Германию сорок шестого года, где доктор Геббельс истерически орет по радио о пропасти, в которую фашизм увлек нацию, бывший комендант Освенцима возглавляет комиссию по отлову нацистских преступников, генералы СС просто и доходчиво говорят о либеральных ценностях, а возглавляет всю лавочку прозревший наконец гауляйтер Восточной Пруссии». Мрачные шутки Пелевина давно стали нашей реальностью. Это я, собственно, к тому, что фарс – необходимая отрыжка трагедии. Лозунг «коммунисты, вперед!» теперь сменился призывом «вперед, бараны!» И в этой фарсовой реальности прогрессивные умы, ничуть не стесняясь, формулируют замечательную в своей откровенности мысль: да, мы все просрали, но за нами придут смелые и молодые, которые снесут к едрене фене кровавый мордор, а на обломках самовластья напишут наши имена. Я называю это синдромом Коровьева.
В трагические российские времена свободные люди за свои свободные порывы расплачивалась сполна – в сибирских рудниках, Шлиссельбургской крепости, на Лубянке, в советских лагерях и психушках. В эпоху фарса главным наказанием свободной тусовки стало лишение хамона и пармезана. И я иронизирую не над редкими людьми, которые и сегодня платят за свои убеждения, а над агрессивно-послушным оппозиционным большинством: оно не желает рисковать своим благополучием, но всегда предлагает хором кричать: «караул!» Нет ничего более рабского, чем чувство свободы, ставшее стадным.
23 апреля 2019
НРАВСТВЕННЫЙ ПАЛЛИАТИВ
Феномен советского человека довольно давно обсуждается в разных пропагандистских контекстах: и как кладезь добродетелей – благородный тип, выведенный под чутким руководством коммунистической партии, и как вместилище всевозможных пороков – Голем, созданный чудовищной советской системой. Последний получил презрительную кличку «гомо советикус», в просторечном обиходе – «совок». Обычно этот термин употребляется людьми, которые пытаются подчеркнуть свое явное отличие от совков умом, честью и совестью. Внутривидовое соперничество заложено у нас в генах. Поэтому считать себя умнее и лучше других либо глупо, но логично, либо разумно, но этологично. А вот считать себя другим биологическим видом – скотство, присущее лишь человеку.
Тем не менее, интеллигентные люди, почитающие себя свободными и цивилизованными, сплошь и рядом постулируют свое отличие от быдлорабов, не соответствующих их тонким гуманистическим критериям. Разумеется, этическая сепарация производится не с эстетическими, а с практическими целями. Потому что расчеловечивание оппонента легитимизирует (по крайней мере, в философском отношении) его правовую несостоятельность. На родине демократии рабы (как и женщины) правами свободных людей не обладали; точно так же современный лозунг «спрячь от бабушки паспорт» как бы констатирует ее невозможность стать дедушкой, то есть субъектом, права которого для свободного человека считаются очевидными.
Свобода, равенство, братство, – провозгласил Робеспьер, и с тех пор эти слова стали базовыми постулатами прогрессивных общественных идеалов. Разумеется их пропагандисты с тех пор руководствовались красивым лозунгом, а не его содержанием. Обозначающим, а не обозначаемым, как сказали бы семиотики. Декларация прав человека и гражданина трактовала вполне конкретно: «Свобода состоит в возможности делать всё, что не наносит вреда другому». А дефиниция братства возвращала прямиком к Золотому правилу: «Не делай другим того, что не хотел бы получить сам; совершай по отношению к другим такие благие поступки, каких ждешь по отношению к себе». Правда, Декларация была принята в 1795 году, когда идеалисты уже залили Францию кровью своих оппонентов, и даже отрезали голову самому Робеспьеру.
Для любых безнравственных поступков необходимы нравственные основания. В политике это еще объяснимо, потому что политика и нравственность – вещи несовместные. В основе политики лежит выгода, даже если называть ее общественным благом: кесарю – кесарево. Интереснее феномен носителей нравственного императива, которые оперируют им как дышлом. Тут стоит уточнить, что надежной связи между словами и поступками человека в принципе не существует. Читаешь фейсбук и видишь, как прекрасный индивид лепит что-то совершенно людоедское, – вероятнее всего, даже не соображая, что несет. Или явный подонок сеет разумное, доброе и вечное: теория вообще суха, в отличие от вечно зеленеющего древа демагогии.
Странному устройству нашей квантовой системы ценностей есть научное объяснение. И даже название: труднозапоминаемый термин «компартментализация». Взятый из биологии, в науке о сознании он означает локализацию несовместимых ценностей в несообщающихся отсеках. Есть замечательный еврейский анекдот, сюжет которого основан на запрете совершать определенные действия (в частности, прикасаться к деньгам) в Шабат – день субботний, когда человек, подобно Господу, должен почивать от трудов своих: «Представляешь, Моня, иду я по улице в Шабат, и вдруг вижу под ногами кошелек! Казалось бы, что делать? И тут смотрю: чудо! Вокруг Шабат, а под ногами – четверг!»
Нравственный императив чаще всего становится для нас нравственным паллиативом – способом убаюкать изредка просыпающуюся совесть. Поэтому возмущение совками как бы ставит возмущающегося на некий моральный пьедестал, с которого становится удобным отделять агнцев от козлищ: есть люди первого сорта, и есть совки. Любопытно, что этот феномен давно перешагнул постсоветские границы: отношение противников Трампа к своим оппонентам пришло явно из-за железного занавеса, и аналогии с Советским Союзом сегодня как никогда наглядны: скажем, «политкорректные» попытки Барака Обамы и Хиллари Клинтон называть террор против христиан на Шри-Ланке террором против туристов и «почитателей Пасхи» можно сравнить только с советскими фигурами умолчания о Холокосте: фашисты ведь убивали людей всех национальностей.
Принципы формирования социологической выборки «гомо советикус» глубоко загадочны. Это – люди, отдававшие жизнь свою за други своя на фронтах Великой Отечественной? или стукачи, написавшие четыре миллиона доносов? строители БАМа или держащие фигу в кармане члены творческих союзов? Добродетелей Вольтера, декларировавшего готовность отдать жизнь за свободу высказывать убеждения, которые он ненавидит, давно никто ни от кого не ждет. Сейчас бы не убивать и не оправдывать убийств носителей ненавистных вам взглядов. Чтобы не становиться карикатурами на собственные идеалы, не надо выносить совок из избы.
29 апреля 2019
МИФЫ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ
Сообщается, что по просьбе крымскотатарских общественников из школьного учебника «История Крыма» вырежут главу о коллаборационизме крымских татар – с целью профилактики межнациональной розни. Одна из блогерш написала в фейсбуке: «Пусть тогда уберут из учебников и упоминание о депортации татар!»
В этой логике несложно представить себе новейший учебник истории в виде tabula rasa. Мир, в котором важны не факты, а интерпретации, становится по-оруэлловски абсурдным. В нашу эпоху информационного тоталитаризма пропаганда из метода промывания чужих мозгов превратилась в наркотик, жизненно необходимый для одурманивания собственных.
Намедни в одном блоге увидел горячее возмущение висящим в детском саду плакатом «Маршалы Победы» с изображением Сталина. Видеть кровавого упыря среди детских игрушек мне тоже неприятно. Значит ли это, что детей необходимо ограждать от исторических фактов и исторических персонажей? Каких и до какого возраста? Каким образом? Или транслировать им правду в собственном понимании? В каком объеме?
Помню, прибежал из детского сада (начало 70-х): «Папа, папа, помоги мне стишок про Ленина выучить!» Папа с утра плохо себя чувствует, спрашивает тяжело: «Алеша, ты думаешь, Ленин хороший?» – «Ну конечно!» – радостно кричу я. – «Так вот знай: Ленин – ГОВНО!!!» Я таким воспитанием, конечно, горжусь. Всем ли оно подходит? Не уверен.
Что делать, если виновник гибели миллионов оказался одновременно и спасителем миллионов? К сожалению, взрослые люди предпочитают жить в мире розовых пони и до седых кудрей. Они говорят: войну выиграл не Сталин!
Разумеется; так Сталин и не убивал своими руками, и четыре миллиона доносов собственноручно не писал. Или, скажем, о Победе в Великой Отечественной нам предлагают забыть: что уж там, навоевались, проехали! Но сталинские преступления при этом отмечать вечно: если уж барак, то бессмертный.
Виктимная идеология понятна. Но логика-то где? Память невинно убиенных котируется больше памяти павших на войне? Тогда какие претензии к гражданам, у которых все наоборот?
Инфантильное сознание нуждается в черно-белой картине мира: на большой шахматной доске расставлены черные и белые фигуры, и в этой партии полутонов не бывает. Зло, совершаемое Добром, есть Добро, а Добро, совершаемое Злом есть Зло.
В этой парадигме вполне логично считать День Победы не праздником, а днем скорби, потому что признание за силами Зла способность творить Добро превращает эту стройную картину в очевидный абсурд. Зато не вызывают никакого смущения манипуляции страданиями народа, который в зависимости от политического контекста получает в соответствующих построениях статус или рабского быдла, бессмысленного оплота кровавого режима, или невинной жертвы оного, нуждающейся в оплакивании.
«В концлагере моей мечты все будет наоборот и надзирателями будут евреи», – мгновенно прославивший Веру Кичанову твит стал символом нового мышления. Идеологическое насилие в эпоху хронической информационной войны становится даже не оружием – лекарством.
Борцы за свободу обсуждают механизмы исправления несознательного большинства в прекрасной России будущего посредством ковровой пропаганды отфильтрованного и сертифицированного Добра. Вот и Ходорковский в своей стратегии переходной диктатуры видит свободные СМИ находящимися под контролем худсовета специально делегированных комиссаров. Разумеется, ведь других способов мирного манипулирования людьми природа еще не придумала.
Удивительно не то, что эти прекрасные люди (как и любые другие) свято верят в свою правоту, – удивительно то, что они совершенно комичным образом игнорируют двойные стандарты.
В политическом отношении эта интеллектуальная бессовестность, безусловно, оправданна: свита будет играть, а не разоблачать любого голого короля, а мнение оппонентов – лишь подливать Аннушкиного масла в костер праведной страсти.
Стоит ли говорить сегодня об интеллектуальной честности в принципе? Является ли этот вопрос риторическим? Мне кажется, смысл есть. Людям, ангажированным деньгами, шорами или референтной группой единомышленников, его задавать бесполезно. Но, по счастью, ими человечество не исчерпывается.
Мы вечно разоблачаем какие-то мифы. Хотя сторонники мифа о том, что СССР развязал Вторую мировую войну в 1939 году участием в расчленении Польши, забывают, что в 1938 году Польша вместе с Гитлером за милую душу расчленила Чехословакию, и началом войны это почему-то не считается. А, скажем, противники мифа о том, что Сталин планировал наступательную войну против Гитлера, почему-то считают его сторонников предателями. Хотя, во-первых, этот миф (даром что сочиненный шпионом-перебежчиком Суворовым), является очевидной апологией сталинской мудрости, а во-вторых, совершенно непонятно, что плохого может быть в планах войны с фашизмом.
Но даже честные люди нуждаются в мифах, потому что они являются основой нашего сознания. Как бы мы ни пытались быть беспристрастными в оценке фактов, мы все равно будем на чьей-то стороне. Выбор стороны диктуют не только политические убеждения, но и система ценностей.
Миф – это основа воспитания. Наша история кровава и ужасна. И это – факт. Какие выводы мы из него сделаем? Что мы живем в уродливой и бездарной стране, и «кабы нас тогда покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с»? Или что мы живем в великой стране, которой можем гордиться несмотря на свинцовые мерзости русской жизни? Мы выбираем виктимность или независимость?
Выбор стороны не означает окопного мышления. Особенно если мы не в окопе, а на диване. И не навязывает необходимости заочно оплачивать великие победы чужой кровью. Мы – не маршалы, посылающие людей в атаку, и не участники Особого совещания, отправляющие их в лагеря. Наш выбор судит лишь нас самих. Мы – это мифы, которые мы выбираем.
8 мая 2019
УЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ
«Так тухло мы еще не жили. Какой уж там СССР!» – сетует Дмитрий Быков. Надо сказать, далеко не первым: протестный дискурс теперь основывается на тезисе «страшнее были времена, но не было подлей». Мне он кажется необыкновенно интересным и показательным в смысле анализа симптоматики. Отношения русской интеллигенции со свободой весьма комичным образом напоминают «Сказку о рыбаке и рыбке»: от нее хочется все большего, а результаты все меньше устраивают. Некоторый оптимизм внушает лишь то, что в спирали нашего исторического развития трагедия сменилась фарсом.
Но идея о необыкновенной подлости и тухлости нынешнего времени по сравнению с советским требует подробного осмысления. Исходя даже из того, что очевидным образом совпадает с настроениями ностальгирующих по СССР, которых вольнодумцы за подобное духовное рабство категорически порицают. Этот забавный парадокс свидетельствует о довольно серьезном когнитивном диссонансе, хорошо заметном в общественно-политических суждениях представителей духовных элит.
«Нас всех взяли в заложники. Взяли давно и довольно надолго, по всей видимости. Говоря несколько определеннее (поскольку речь идет о государстве), мы находимся в мягкой разновидности концлагеря», – пишет Шендерович. Я бы назвал этот феномен московским синдромом – он как стокгольмский, но есть нюанс: «заложников» никто не держит, но на свободу они не хотят, «террористов» за это ненавидят и выставляют им невыполнимое требование поменяться местами.
Казалось бы, к чему анекдотическая риторика, которая просто напрашивается на пародию? Если в знакомых писателях я не готов подозревать ничего дурного, кроме плохо отрефлексированного публицистического пафоса, то технология, стоящая на вооружении профессиональных пропагандистов, совершенно очевидна. Так как реальной кровавости наш режим обнаруживать, по счастью, не хочет, на него необходимо навесить все преступления советской власти, в которых он как бы окажется косвенно повинен. Казалось бы, смешно – зато отлично работает.
Нельзя сказать, чтобы это было ноу-хау либеральной пропаганды – по той же технологии евреев до сих пор обвиняют в том, что они распяли Христа. Ничего нового в жанре манипуляции общественным сознанием изобретать не требуется. Мне совершенно не хочется выступать адвокатом или апологетом нашего режима, который от идеала весьма далек. Агитировать я считаю необходимым исключительно за здравый смысл. А здравый смысл подсказывает, что все познается в сравнении.
Например, можно сравнивать круизный лайнер с философским пароходом, или очередь в «Макдональдс» – с ахматовской тюремной очередью. Крым с Колымой, Сталина с Путиным, а Троцкого с Артемием Троицким. Корректные сравнения, правда, предполагают некую релевантность. Одной из базовых аксиом драматургического ремесла является положение о том, что истоки любого конфликта – в противоречии между системами ценностей его сторон. Поэтому и сравнивать что-либо логично, лишь исходя из того, какие ценности лежат в основе наших оценок.
Если исходить из системы ценностей, в которой главенствующими являются права и свободы человека, то нынешний режим является самым либеральным в истории России. При всем уважении к Б. Н. Ельцину, его режим (который развалил вопреки решениям референдума СССР, расстрелял парламент, изменил Конституцию, утвердил правовой беспредел, развязал гражданскую войну в Чечне и организовал анекдотические президентские выборы), на основании одних лишь редакционных свобод назвать более либеральным никак не получается.
Конечно же, действовал Ельцин не в гипотетических обстоятельствах, а в критических, и сейчас бесполезно думать, что ждало бы Россию в случае альтернативных поворотов ее истории. Другое дело, большое удивление вызывает позиция нашей интеллигенции, которая в 1993 году призывала своего президента «раздавить гадину», а четверть века спустя отказывается понимать, что несет полную моральную ответственность за все, что случилось в результате реализации ее чаяний. Если вы обнаруживаете себя в мышеловке, это свидетельствует только о том, что сыр бесплатным не бывает. Даже если за свою свободу вы заплатили чужой, по счету рано или поздно платить придется.
Между невинными жертвами режима и людьми, ковавшими его своими руками, есть большая разница. Между людьми, которые хлебают баланду и испытывают перебои с хамоном – тоже. Нелепыми сравнениями в трагедию рядится фарс. Мы живем во времена не переоценки, а уценки ценностей. Даже память превратилась в разменную монету: одни предлагают нам забыть Победу, но вечно помнить бессмертный барак, другие – наоборот. Как прекрасно сформулировал по другому поводу тот же Быков, «одни для компенсации своей травмы всех готовы объявить предателями, а другие всех остальных… тоже предателями, наверное, потому, что другого клейма в России не придумано».
Прекрасная Россия будущего – это мираж. Как говорили спутники Моисея, красота не в пустыне, а в душе верблюда.
20 мая 2019
МЕЖДУ КОНСТИТУЦИЕЙ И СЕВРЮЖИНОЙ С ХРЕНОМ
«Демократия – это вам не лобио кушать»: пророческая фраза Джабы Иоселиани сегодня слышится эпитафией несбывшимся надеждам на самозарождение прекрасного нового мира в руинах советской империи. Что же случилось, когда на строительной площадке цивилизации произошел Большой Взрыв, после которого все ужасы коммунизма должны были осыпаться и обнаружить под собой все прелести демократии?
Когда дым рассеялся, демократии на площадке не было. Казалось бы, удивляться этому странно: примерно такой же пассионарный взрыв (хотя и с куда более печальными последствиями) произошел стараниями цивилизованного мира на Ближнем Востоке, и результаты оказались примерно такими же. От перестановки декораций сумма демократии не меняется. «Европа – вот здесь!» – как, уперев указательный палец в лоб, сказал президент Зеленский в инаугурационной речи.
Проблема в том, что для постсоветского человека демократия оказалась не институцией, а мантрой. Дышло демократии оказалось удобным использовать в самых неподходящих целях – и, в первую очередь, для строительства на просторах маленьких субимперий компактных тюрем народов. Правда, у наций, которым в новых демократических государствах не посчастливилось быть титульными, обнаружились собственные представления о демократии, – и начались гражданские войны, которые в той или иной форме не прекращаются до сих пор.
Выяснилось, что демократия умеет много гитик, и вообще не является исключительной по своей стройности системой, которая может разрешить на цивилизационном уровне все противоречия – например, между принципом территориальной целостности государств и правом наций на самоопределение.
Источником власти в любой стране принято считать народ. Демократию можно сравнить с краником, который стоит на этом источнике. Если краник срывает, демократия накрывается. Ведь, по сути, демократия – это всего лишь институт согласования интересов. Не могу назвать себя большим поклонником демократии по одной простой причине: когда решения принимаются людьми, у которых здравый смысл развит хуже, чем аппетиты, риски слишком велики.
Демократия пришла к нам из Древней Греции, где рабы (даже освобожденные), иноземцы и женщины права голоса не имели, и по некоторым подсчетам управлением государством занималось примерно 14% населения. Эта цифра могла бы порадовать наших либералов, но вряд ли она имеет отношение к тем ценностям демократии, которые они же декларируют. Кстати, в США, принявших Декларацию независимости, правом голоса наделялись только имевшие собственность белые мужчины.
Можно сколько угодно хвастаться, что советская власть дала право голоса всем угнетенным, но нелишне помнить, куда они могли засунуть этот свой голос. В современном мире работающая демократия – плод тяжелой и мучительной борьбы за свои права. И везде краник устроен по-своему: например, в США институт прямого выбора президентов просто отсутствует. На мой взгляд, выбирать из современных вариантов квазидемократий один, единственно верный, – занятие совершенно бесперспективное.
Наша суверенная демократия мало чем отличается от американской в том смысле, что тоже явилась плодом пусть недолгого, но тяжелого исторического опыта, связанного с расстрелом мятежного парламента. Когда задача сохранения севрюжины с хреном потребовала изменения Конституции. С одной стороны, можно говорить, что идеалы демократии этим расстрелом были похоронены. С другой – что с тех пор наша молодая демократия приобрела свою сермяжную окраску, приспособившись на манер хамелеона к условиям ментального рельефа, сформированного конвергенцией мечтаний прогрессивных умов с аппетитами чиновничьей системы: одни хотят как лучше, другие – делают как всегда.
Глас народа – штука капризная. Он удобен только для социологов, которые умеют манипулировать им как угодно. Какие результаты хотят получить, такие и вопросы задают. А в политике он – как дышло: иногда становится актуальным, когда используется для решения политических задач, вроде возвращения Крыма, иногда – забывается, как референдум о сохранении СССР. А недавно в Волгограде даже часовой пояс изменили посредством референдума: тоже демократия, и вполне безобидная, хотя местные конспирологи чувствуют невидимую руку пенсионеров-дачников, которые хотели часом больше копаться на грядках, и ради этого взбаламутили умы.
Тридцать лет назад открылся Первый съезд народных депутатов СССР. Право голоса получила вся страна. Казалось: вот оно, счастье – говори не хочу. Сколько открылось умов, сколько талантов! Вся страна не отходила от телевизоров и радиоприемников. Если раньше государством командовала коллективная кухарка, то тут им словно начала заправлять в свободном эфире интеллигентская кухня. Но постепенно оказалось, что слова словами, а дела делами. Свободные порывы конвертировались в свободно конвертируемую валюту, а в демократию – не хотели. В результате вместо Сахарова и Солженицына мы имеем Пионтковского и Гозмана, и не то что поговорить как с Махатмой Ганди – даже послушать некого. Выговорились.
Лучшие заповеди политического гуманизма сформулировал Иосиф Бродский: «Нельзя ничего навязывать обществу. Единственное, что необходимо сделать, это создать такие механизмы, которые защищали бы одного человека от другого. Это и есть главная задача. Создание такой правовой системы, которая предупреждала бы возможность нанесения вреда одним человеком другому. Главная цель человечества – гарантирование безопасности большинству, а в идеале – всем, создание системы взаимозащиты каждого от каждого. Вот смысл и цель существования общества». В такую демократию я верю.

