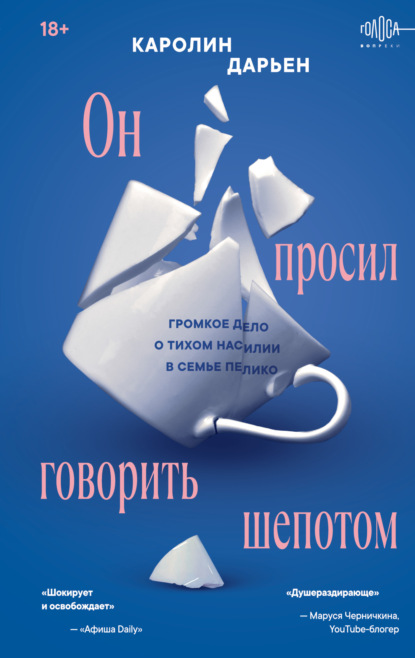Полная версия
Дом моей матери. Шокирующая история идеальной семьи
Но, как ни удивительно, в моих первых воспоминаниях Руби всегда в слезах. Она рыдала по любому поводу. Радость, печаль, скука – любые переживания сопровождались у нее плачем. Спокойствие было ей незнакомо. Возможно, именно поэтому она хотела много детей. Русскую матрешку из себе подобных, на кого она сможет выплескивать цунами неконтролируемых эмоций. Заполнить мучительную пустоту внутри мини-версиями себя, которые будут смотреть на нее с обожанием. Интересно при этом, как женщина, которая столько плакала, могла оставаться полностью равнодушной к слезам других, включая мои.
Я часто задумываюсь, насколько мое взрослое «Я» сформировалось в те начальные годы. Моя склонность держать чувства внутри, являя миру стоическую маску, – что, если это эхо детского осознания: твои эмоции никого не волнуют? Еще до того, как начала говорить и даже думать, я осознавала, что моя боль не имеет значения, как и мои потребности. Если бы на мои слезы отвечали утешением вместо намеренного пренебрежения, выросла бы я другой: более открытой, менее сдержанной? Или мне от рождения было суждено замыкаться в себе, эмоционально дистанцироваться, прятаться за стеной, которую я до сих пор пытаюсь преодолеть?
Наверняка это знать невозможно: природа и воспитание выступают здесь единым фронтом. Но, вспоминая свои детские переживания, я невольно ощущаю грусть за маленькую девочку, которая в слезах звала маму. Которая хотела другой любви, а не той, что получала. Любви, допускающей слабость, слезы – полный спектр человеческих эмоций. Любви, которая делает ребенка свободным.
Глава 3
Мама не очень меня любит
В 2005 году, когда мне было два, в шоу Руби дебютировал новый участник – мой младший брат Чед. Кроме него дополнением к семье стала наша первая собака, Нолли, жизнерадостный щенок лабрадора, полный задора и любви. Она бегала за мной, яростно размахивая хвостом и облизывая при любой возможности. Нолли, как и младшему брату, всегда удавалось меня рассмешить.
В 2007 году на сцену вышел третий ребенок, девочка. Я не буду называть здесь ее имя. В книге все мои младшие братья и сестры, за исключением Чеда, останутся безымянными – моя последняя линия защиты для них.
В более благополучном мире их истории не стали бы темой для книги. Все личные подробности остались бы при них, известные только друзьям и семье, и их не разглядывали бы под микроскопом посторонние люди в Интернете. Но спокойствие и анонимность с самого начала были не для нас. За это надо поблагодарить Руби – и ее ненасытное стремление к вниманию и успеху.
Путешествие моей матери к вершинам славы началось достаточно невинно – с мамского блога под названием «Хорошо выглядим и готовим дома»[6]. Такие блоги были тогда в новинку, и Руби, как ее сестры и братья, очертя голову ринулась исследовать возможности онлайн-медиа.
«Основная цель этого блога – запечатлеть рост нашей семьи и наш опыт, – заявляла Руби в своем свежесозданном профиле. – Я хочу, чтобы у моих детей было место в Интернете, куда они могли бы зайти и посмотреть, как растут и взрослеют».
В Церкви нас тоже подталкивали тщательно документировать свою жизнь, указывая путь следующим поколениям и напоминая им об их корнях. Иными словами, делать за Господа его работу. Благодаря своему маленькому блогу Руби быстро ощутила первый вкус онлайн-существования и возможностей, которые оно дает – как инструмент для самовыражения, способ заявить о себе и собрать аудиторию, публикуя рецепты малинового курда, курицы с медом и лаймом или шоколадного печенья; рисуя картинку дома, полного ароматов свежевыпеченного хлеба и приготовленных с любовью обедов и ужинов.
Правда же в том, что ни одного из этих блюд она, кажется, так и не приготовила. Конечно, Руби вечно что-то пекла (ей нравилось пробовать рецепты из кулинарной книги Энн Ромни). Но большинство рецептов на «Хорошо выглядим и готовим дома» были скорее фантазиями, чем реальностью, частью имиджа улыбающейся мамы, перепачканной мукой, и смеющихся херувимчиков вокруг стола. Даже на ранних стадиях своей онлайн-карьеры Руби жертвовала правдивостью ради показухи.
Были, конечно, исключения: я могу подтвердить, что у нее получался потрясающий хлеб, коронное блюдо наших семейных сходок и пикников. Она нарезала его толстыми ломтями, каждый с батон, и воздушные полости разных размеров лишний раз подтверждали ручной замес и терпеливость хозяйки. Корочка обязательно хрустела, обнажая нежный теплый мякиш. Такой хлеб требовал к себе особого внимания, и самый простой сэндвич с ним превращался в полноценный прием пищи. Одного куска мне хватало, чтобы наесться, хотя обычно я им не ограничивалась.
Руби завела еще блог «Полностью загородная»[7] и мамскую блогерскую группировку «Аппетитные мамочки»[8]. Маркетолог до мозга костей, она начала брендировать наши семейные фото, помещая в угол логотип «Это жизнь Франке».
Три моих тетки, Элли, Бонни и Джули, жившие в полутора часах езды от нас и друг от друга с мужьями и увеличивающимся потомством, тоже активно вели блоги. Кажется, стремление выставить семейную жизнь напоказ и превратить в бизнес было у Гриффитсов в ДНК.
«Все мои дети будут учиться играть на фортепиано», – заявила Руби, и мне, ее первенцу, пришлось выступить в роли подопытной морской свинки. С пяти лет Руби будила меня в шесть утра и усаживала за наш Kawai упражняться под ее пристальным надзором.
– Пальцы молоточками, Шари! Считай! – рявкала она, шлепая по фортепиано ладонью, от чего я подскакивала на месте. – И бога ради, не делай такое лицо!
Я быстро усвоила, что любая реакция, кроме восторженного энтузиазма, повергает Руби в гнев. Одна моя недовольная гримаса – и она била меня по руке или по губам, либо дергала за ухо. Я редко плакала, когда Руби меня наказывала, – лишь одному члену нашей семьи позволялось лить слезы, и это была не я. Поэтому я старалась сидеть как можно тише, с нейтральным выражением лица. Но за этим спокойным фасадом уже зарождалось осознание.
Мама не очень меня любит.
Я была благодарна, что у меня есть Нолли, которая к тому времени выросла из очаровательного щенка во взрослого лабрадора.
Во время этих мучительных фортепианных уроков, когда недовольный мамин голос заполнял все уголки комнаты, Нолли обычно лежала под клавиатурой, прижавшись теплым боком к моим ногам. Под градом маминых упреков я опускала голову и видела устремленный на меня взгляд ласковых карих глаз, полных любви и сочувствия, которые как будто говорили: «Все в порядке, ты не одна».
– Мама, – всхлипывала я, прокравшись в родительскую спальню среди ночи со своей игрушечной лошадкой, Пузыриком, прижатой к груди, – у меня опять животик болит.
Руби тяжело вздыхала, не скрывая раздражения.
– Шари, сколько можно! С тобой все в порядке. Возвращайся в кровать.
Даже тогда, в пять лет, мое тело пробовало бунтовать, как будто каждая клеточка протестовала против среды, в которой мы оказались. Конечно, сейчас я понимаю, что боль в животе была не просто детской жалобой, а физическим ответом на постоянную тревожность.
По ночам непрерывное психологическое напряжение выливалось в кошмары. Я лежала в кровати, ощущая, как темнота давит на меня, убежденная, что в любой момент демон возникнет из воздуха со мной рядом, готовый похитить мою душу. Страх был настолько реальным, что я умоляла Руби оставлять в моей комнате включенный ночник. Но она не собиралась потакать тому, что считала капризом.
– Нет, Шари, учись спать в темноте. В этом доме чудовищ нет, – конечно же, она ошибалась: одно там точно было.
А как только гас свет, появлялись и другие демонические существа с кровожадными усмешками прямиком из средневековых легенд. Их искаженные лица наполняли мои бессонные ночи, а их страшные истории во всех подробностях разыгрывались в моих снах.
Откуда маленькая девочка вообще могла узнать про одержимость демонами? Я уверена, что тут сыграла роль религиозная парадигма, в которой меня растили. Мы все верим в силу Сатаны и в способность его легионов падших душ завладевать живыми людьми. Мы верим, что зло может принимать физическую форму – иногда ненадолго, иногда на длительное время. Воспитанная в убеждении, что сам воздух, которым я дышу, полон невидимых сил, борющихся за власть над моей душой, я с легкостью могла вообразить их битвы в моей спальне.
Возможно, постоянная тревожность объяснялась также эмоциональной нестабильностью матери, подкреплявшей эти страхи, как будто мое подсознание, не в силах объяснить себе хаос, царивший в доме, выдумывало сверхъестественные ужасы, чтобы облечь в физическую форму напряжение, которое все мы ощущали.
Как-то я разучила к еженедельному уроку фортепиано пьесу, которую мне задала учительница: отработала каждую ноту и аккорд, так что могла сыграть ее даже во сне. Руби, похоже, была довольна моим прогрессом и решила, что можно переходить к следующему произведению. Но тут настало время урока.
– Пока не совсем правильно, дорогая, – сказала учительница, послушав мою игру. – Давай поработаем над ней еще недельку.
Еще неделя до того, как она даст мне наклейку, означающую, что я сдала пьесу. Для нее это явно был пустяк. Она не понимала, что для меня маленькая золотистая звездочка – вопрос жизни и смерти: как я скажу Руби, что ее суждение опровергли? Неужели учительнице не ясно, в какое мучительное положение она меня ставит и какое тонкое равновесие может нарушить?
Мои глаза наполнились слезами, и я заерзала на табурете. Учительница с недоумением на меня посмотрела – она не ожидала подобной реакции от пятилетки.
– Что такое, Шари? – спросила она.
– Просто… моя мама считает, что пьеса готова, – дрогнувшим голосом ответила я.
Как бы я смогла объяснить учительнице, что ежедневно хожу по минному полю, крадусь на цыпочках по хрупкому льду, по яичной скорлупе?
Почувствовав, что приоткрыла ящик Пандоры, она предпочла по-быстрому его захлопнуть.
– Ну, ничего страшного, вот тебе наклейка, молодец! Ты отлично занимаешься. На следующей неделе разучим новую пьесу?
Ф-ф-ууух! Я выбралась из зыбучих песков… пока что.
Оглядываясь назад, я поражаюсь тому, насколько быстро мой детский разум приспосабливался к смене настроений Руби. В пять лет я инстинктивно понимала, как надо себя вести. Быть податливой. Покорной. Стараться действовать так, чтобы заслужить далекое от безусловного одобрение матери. Я была растением, стремящимся к солнцу, и гнулась, принимая неестественные формы, лишь бы добиться хоть лучика ее любви. Но сколько я ни гнулась и ни клонилась, чего бы ни добивалась и ни достигала, этого всегда было недостаточно. Обруч, через который надо было прыгать, поднимался еще выше, стандарты становились еще суровей.
Ни один ребенок не должен заслуживать родительское одобрение. И никакими достижениями не заполнить пустоту там, где должна быть безусловная любовь. Сегодня от одной мысли о том, чтобы сесть за фортепиано, во мне пробуждаются самые ранние и глубинные страхи. Страхи, связанные с матерью. Очень жаль, что даже такие прекрасные вещи, как музыка, могут омрачаться тенями из нашего прошлого.
Глава 4
Ярость внутри
В 2009 году, когда мне было шесть, Руби родила четвертого ребенка, девочку. Три моих тетки с мужьями присутствовали на родах, и, по их рассказам, моя сестра выскочила наружу очень быстро, словно торопилась присоединиться и поучаствовать в вечеринке.
Помню, в день, когда Руби вернулась домой из госпиталя, я стояла в дверях ее спальни и наблюдала, как ее мать преподносила ей подарок – чудесную шелковую пижаму.
Глядя на эту сцену, я почувствовала нечто, чему не могла подобрать названия. Зависть? Желание? Между Руби и ее матерью была неразрывная связь, близость, которой я восхищалась и к которой ревновала. Они смеялись вместе и улыбались друг другу, от чего я чувствовала себя еще более одинокой, чем обычно.
Я спросила:
– А ты мне подаришь шелковую пижаму, когда я рожу ребенка?
– Ну конечно! – радостно воскликнула Руби. – Когда у тебя появится ребенок, мы сможем по-настоящему дружить.
В этот момент все встало на свои места. Одиночество, которое я всегда ощущала, стремление сблизиться с матерью – все стало для меня понятно. Мы с Руби не могли подружиться, пока я не стану женой своего мужа и матерью своих детей. Пока у меня не появится собственная семья. Пока я не буду ей равной. Руби пришлось выйти замуж и родить, чтобы добиться уважения своей матери, и мне предстоит сделать то же самое. Надо подождать, прежде чем меня полюбят.
Наблюдая за тем, как Руби с матерью восхищаются шелковой пижамой, я дала себе молчаливую клятву. Когда-нибудь у меня будет собственный ребенок. Когда-нибудь я получу такую же пижаму. И в этот день, наконец-то, мы с Руби станем подругами.
Руби сразу же начала стараться снова забеременеть – хоть и было ясно, что постоянный стресс от вынашивания детей сильно сказывается на ней. Бывали дни, когда она ходила с прищуренными глазами и губами, сжатыми в тонкую бескровную полоску, любуясь хаосом в доме, полном крошечных человеческих существ. Она осматривала наш дом с холодной расчетливостью генерала, оценивающего поле битвы и решающего, какие приказы отдавать. Тому, кто попадался ей под руку, приходилось несладко. Ваза, сдвинутая с места, валяющаяся на полу игрушка, стакан со следами пальцев – что угодно могло стать причиной ее нападок.
Как только дети начинали ходить, Руби включала их в свою бесплатную клининговую команду. Философия у нее была простая: все вносят свой вклад, все должны быть заняты. Свободные руки – прибежище для дьявола. Одной из ее любимых тактик была блиц-уборка. Она собирала нас перед собой и объявляла:
– Итак, войско! Я ставлю таймер на один час. Мы вычистим этот дом от крыши до подвала. На старт, внимание, марш!
Мы рассыпались по дому и начинали вытирать пыль, драить полы и раскладывать все по местам. Это было шумно, утомительно, но, как ни странно, приносило облегчение. Я с радостью соглашалась на роль маминой маленькой помощницы и брала на себя часть обязанностей младших братьев и сестер, исполняя все возрастающие требования Руби.
С деньгами была напряженка, но карьера Кевина как инженера-геотехника шла в гору. Он по-настоящему увлекался тектоническими плитами и размыванием почв, существуя в научном мире, где время измерялось не днями и часами, а тысячелетиями. Его сфера деятельности являла собой разительный контраст с мелодрамами у кухонной раковины, поглощавшими Руби, и с ее срывами, во время которых мы все ходили на цыпочках.
Однажды в Руби что-то изменилось. Вечная слезливость приобрела какую-то другую окраску, и даже я с моим ограниченным пониманием сообразила, что у нас горе. У Руби случился очередной выкидыш – третий – на семнадцатой неделе. Беременность успела развиться до того, что она ощущала шевеления плода и знала пол – мальчик. Она даже выбрала ему имя. Этот выкидыш ощущался совсем по-другому: она потеряла сына, часть себя.
Руби никогда не давала себе время скорбеть, – ее учили, что, когда жизнь чинит препятствия, надо затянуть пояса и продолжать двигаться к цели. Продолжать беременеть, продолжать печь хлеб, продолжать суетиться по дому.
Как-то ночью ей приснилось, что она пошла за продуктами и увидела маленького мальчика, в одиночестве стоявшего у прилавка с яблоками. Она спросила, где его мама, а мальчик ответил, что мамы у него нет.
– Хочешь пойти со мной домой? – сказала она. – Я буду твоей мамой!
Он кивнул, и Руби посадила его в магазинную тележку поверх хлеба и бананов. Месяц спустя она снова была беременна. Когда у нее начал расти живот, Руби внезапно стала удивительно спокойной. Беременность оставалась для нее наивысшим женским призванием, исполнением священного предназначения. В редкие минуты тихих размышлений, когда рука Руби покоилась на округлившемся животе, я видела ее в самом мирном и удовлетворенном состоянии. Как бы мне хотелось ощутить такое же удовлетворение, пуститься в собственный духовный путь и открыть для себя подлинный смысл жизни!
Глава 5
Пионеры
Когда мне было восемь, мы переехали в первый наш собственный семейный дом. Наконец-то у нас появились качели во дворе! Я часами качалась на них, отталкиваясь ногами и представляя, что могу дотронуться до неба.
Руби в своем энтузиазме немедленно принялась красить стены и двери в разные оттенки желтого – ее любимого цвета.
– Мама, – спросила я однажды, – почему все должно быть таким… ярким?
Цыплячий желтый цвет придавал нашим интерьерам кричащий, раздражающий вид.
Она лишь широко улыбнулась, явно гордясь своей работой.
– Желтый цвет – радостный! Разве ты не чувствуешь себя счастливой, глядя на него?
Мне не хватило духу сказать, что я чувствую себя заключенной внутри гигантского банана.
Дом находился в Спрингвилле – городке на плоской равнине, с населением около десяти тысяч человек, основанном в 1850 году пионерами мормонской церкви. Спрингвилл стоит у подножия гор Уосатч, – долгое время они казались мне границей обитаемого мира.
Если вы любите хорошие рестораны и культурные мероприятия, Спрингвиллу нечего вам предложить: у нас есть супермаркет «Уолмарт», зеленая лавка, пара заведений «Тако Беллз» и «Айхоп», вот и все. За развлечениями надо отправляться в Прово или Спэниш-Форк в пятнадцати минутах езды.
В Спрингвилле нет собственной церкви, поэтому многие его жители посещают церковь в Прово. Раньше она выглядела как космический корабль или свадебный торт – овал со шпилем, похожий на НЛО, – но не так давно там построили и традиционное кирпичное здание. До классической белоснежной церкви СПД придется добираться часа полтора – это потрясающий храм в Солт-Лейк-Сити, самый высокий шпиль которого венчает золотая статуя ангела Морония.
Помню, как я с трясущимися поджилками ступала в купель для крещения, и вода плескалась о щиколотки под кружевными оборками белого купального костюма. Мне было восемь, и я делала первые самостоятельные шаги в мормонской церкви, принимая крещение.
Когда я погрузилась в воду целиком, то ощутила удивительный покой. Я была в безопасности. Под защитой Господа и моей веры мне ничто не угрожало. Что такое крики и выговоры Руби по сравнению с вечной истиной Евангелия? Крещение дарило мне ощущение мира, защищенности и теплоты, и я держалась за это чувство, как за компас в бушующем море. В своем дневнике я написала, что креститься было все равно что оказаться внутри теплой свежеиспеченной вафли.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Персонаж из произведения Джейн Остин «Гордость и предубеждение». В романе она навязчиво озабочена замужеством дочери, думая о денежной выгоде. Не способна на эмпатию, зациклена на общественном одобрении.
2
Персонаж из фильма «Психо» (1960 г.). Хоть мы и видим ее лишь через призму восприятия Нормана, ее образ как тотальной, поглотившей личности матери стал архетипом.
3
Персонаж из кинокомедии «Дрянные девчонки». Мама Реджины проецирует на дочь свои нереализованные амбиции. Она избегает ответственности, выбирая быть «крутой подружкой», а не эмпатичным родителем.
4
Il fine giustifica i mezzi (итал.) – Цель оправдывает средства. Из труда Никколо Макиавелли «Государь».
5
Название социальной сети изменено в связи с законодательством Российской Федерации.
6
В оригинале Good Lookin Home Cookin.
7
В оригинале Full Suburban.
8
В оригинале Yoummy Mummy’s.