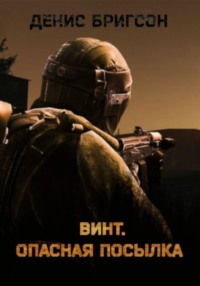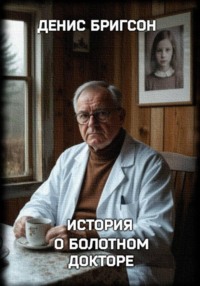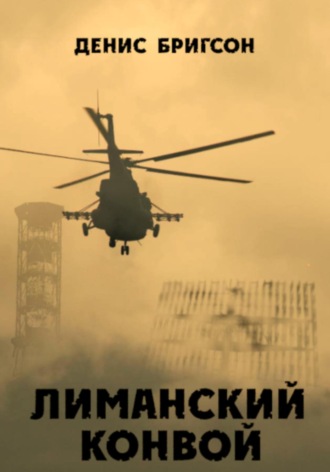
Полная версия
Лиманский конвой

Денис Бригсон
Лиманский конвой
Пролог
Два бульдозера, рыча и изрыгая вверх струи черного дыма, активно сносили деревянные дома, сарайчики, бани и заборы. Смешивали с землей всё, что когда-то являлось таким благополучным сельским укладом. Под тяжелыми гусеницами исчезали собачьи будки, детские трехколесные велосипеды, парники с зеленью и овощами. Отвалы тракторов гребли перед собой огромные комья земли и травы и хоронили под ними всё, что не смогло вдавиться под гусеницами.
На километры вокруг лишь эти два бульдозера нарушали оцепенение, которое овладело этим мертвым ландшафтом. Они не вписывались в местный колорит, как и несколько других таких же бульдозеров, изрядно фонящих и брошенных за селом у рыжеватой туманной пелены. За рычагами техники сидели люди в радиационно-защитных костюмах и противогазах.
Безопасное время работы, которые могли обеспечить эти костюмы, заканчивалось. Трактористы подогнали бульдозеры к остальной брошенной технике, заглушили их и покинули кабины. И пока ожидали машину эвакуации, обозревали творение своих трудов – то, что осталось от печально известного села Буряковка Чернобыльского района Киевской области.
– Что это? Ты видишь? – вдруг произнес один из бульдозеристов.
– Где? – поинтересовался второй.
– Там в тумане. Как-будто фары светятся.
Рабочие стали вглядываться в туман.
– Пойдем, поближе глянем, – не унимался первый.
– Ты забыл, что прапор сказал? К туману не подходить. – отговаривал второй.
– Да ладно, Колян, просто глянем.
Трактористы усердно вглядывались в туман, стоя на кромке этого мутного смога. Там внутри, действительно, как-будто что-то светилось.
– Офигеть! – проронил удивленно первый тракторист. – Там пожарная машина, кажется, в тумане стоит. Ее фары светят.
Колян пристально вглядывался в рыжую пелену и, похоже, тоже увидел машину даже сквозь стекла противогаза. Потом в ужасе отпрянул назад.
– Санек, – заорал он, – валим отсюда!
Первый тракторист повернулся и удивленно посмотрел на напарника, но не двинулся от тумана ни на шаг:
– Ты чего, Колян?
– Там что-то есть! Кто-то ходит!
Санек повернулся и продолжал рассматривать. Ему показалось, что в рыжей дымке тумана двигаются какие-то черные пятна, много пятен. Стекла противогаза вмиг вспотели изнутри. Тракторист тряхнул головой и отошел подальше от зловещей пелены.
– Ты видел? – спросил Колян.
– Да это галюны, наверное, – неуверенно ответил Санек.
– Сам ты галюны! – вскипел Колян. – Если это галюны, то давай, дойди до машины.
От такой перспективы у Санька пробежал мороз по коже:
– А что это вообще за туман? – робко спросил он.
Колян шумно продышался в противогазе и ответил:
– Это может слухи, но сержант говорил, что там в тумане мертвый город. И после аварии все жители стали призраками или зомби. И они не могут выйти из тумана, просто ходят там и зовут на помощь… Если зайти в туман, то тоже не сможешь выйти и станешь одним из них.
Они стояли и с трепетом вглядывались в змеящиеся клубы рыжего тумана. Иногда им казалось, что там было заметно какое-то движение. Пульс так сильно колотил в ушах трактористов, что они не услышали, как сзади подкатил уазик. И когда водитель окрикнул их, они подпрыгнули и заорали.
– Вы че, дебилы? – бросил им водила. – Давай, погнали быстрей.
Трактористы спешно запрыгнули в машину и с облегчением удалялись от пугающего тумана…
Капитан Петренко
Топливозаправщик подъехал к борту для дозаправки вертолета. Вопреки инструкциям в момент заправки группа пассажиров так и осталась в салоне внутри вертолета, и лишь первый пилот покинул кабину Ми-8, чтобы проконтролировать процесс. Важность и секретность миссии требовала соблюдения особых условий даже в нарушение войсковых инструкций и уставов, поэтому дверь борта осталась закрытой.
Капитан Петренко сидел на лавке в салоне вертолета и задумчиво поглядывал на членов своей команды, которой высоким военным руководством в Москве была доверена особая задача, одной из основных целей которой была поиск и эвакуация конкретных заслуженных деятелей науки. Петренко не спеша переводил взгляд с одного на другого, и невольно усмехнулся мысли: важная миссия; разработана генштабом и еще там кем-то; всё мутно и секретно. И на выполнение всего этого подрядили одного офицера и солдат-срочников.
Капитан давно был не молод, за плечами солидный срок службы, поэтому ясно понимал на что подрядился, можно сказать, добровольно. По факту еще до поездки в Москву к большому начальству ему были предельно ясны перспективы в его карьере, и те обстоятельства, которые сложились в его жизни к тому моменту, позволили с минимальными колебаниями согласиться на опасную командировку. А как не согласиться, если предоставился шанс вырваться из той трясины, в которой он пребывал уже почти десять лет?
В свои тридцать восемь Петренко всё еще носил погоны капитана, которые «прилетели» ему на плечи восемь лет назад да так и не превратились в майорские за всё это время. Все друзья-сокурсники в подполковниках ходили и планово двигались по карьерной лестнице, перебираясь ближе к федеральным центрам. А Петренко уже десятый год пребывал в маленькой части войск РХБЗ1, дислоцированной на окраине замызганного поселка во Владимирской области. В чем-то в этом была и его вина – начальство жаловало и продвигало «полезных и удобных» и наоборот очень не любило, когда подчиненные оказывались слишком ответственные и имели мнение, отличное от «правильного» мнения начальства. Даже когда неделю назад громыхнул Чернобыль, его фамилии не оказалось в списках командированных для ликвидации последствий на Украине, и в жизни капитана ничего не поменялось. Капитан много раз помышлял написать рапорт в ДРА2, единственное место, куда было возможно вырваться, но против этого категорически была его супруга.
Семья для капитана была светом в его жизни. Жена Марина и дочка Аня проживали вместе с Петренко в однокомнатной служебной квартире в поселке. Анечке летом исполнится уже семь лет, совсем взрослая будет – Анна Андреевна Петренко – и приближение этого значимого события накаляло обстановку внутри семьи. Когда Аня немного подросла, Марина специально устроилась в единственный детсад в поселке, чтобы быть ближе к дочке. Но это время неумолимо заканчивалось, дальше школа, которая в другом поселке. Да и та не ахти. Марина знала, какое качество образования могла предоставить поселковая школа, а для единственной роднулички она хотела только лучшее, тем более мечтательно расписала уже в какой ВУЗ Аня в будущем будет поступать. Поэтому в семье остро вставал вопрос – как быть? Жена всё больше замыкалась в себе и становилась отдаленней с каждым днем. Андрей на нее не злился, сам всё понимал. Вариантов здесь немного, как ему виделось – либо он увольняется, естественно по плохой статье, которая перечеркнет все годы его службы, либо жена с дочкой уезжают из этой дыры без него. Петренко очень любил свою семью, а без своего маленького ангела Анечки вообще не представлял своего существования. И вот это единственное, что было ценным в его жизни, могло в ближайшее время перестать существовать.
Как-то вечером после ужина, когда Андрей листал газеты в поисках новостей в зоне ЧАЭС, а жена с дочкой чем-то занимались на кухне, на корпоративный телефон, установленный в квартире, поступил звонок. Марина подняла трубку и, услышав первые слова собеседника, коротко бросила мужу:
– Тебя.
Андрей подошел к телефону и представился:
– Капитан Петренко.
Звонил оперативный дежурный с сообщением о том, что прямо сейчас командир части подполковник Завадский вызывает его к себе в кабинет.
Спустя двадцать минут Андрей остановился у кабинета начальства и постучал в дверь.
– Да!? – раздалось за дверью.
– Разрешите, товарищ полковник?3 Капитан Петренко, – произнес он, открыв дверь.
– Да, проходи, – ответил подполковник. – Присядь-ка сюда.
Завадский указал капитану на ближний к себе стул за т-образным столом командира части, сложил какие-то документы в папку и аккуратно убрал их в ящик стола. Потом подполковник посмотрел на опустившегося в стул капитана и начал:
– Поступило распоряжение в Управление… Назначить офицера и команду для командировки в зону ЧАЭС4, – Завадский внимательно глядел на капитана. – Управление почему-то решило спустить это нам.
Андрей смотрел на свои руки, сцепленные пальцами на столе, и ждал, хотя уже понял смысл дальнейшего разговора.
– Информации в телеге5 мало, – продолжил подполковник. – Видать, не нашего ума дело, решили сверху. Знаю только, что не ликвидация.
Завадский встал из-за стола, подошел и открыл окно в кабинете. В помещение пахну́л теплый майский воздух, пропитанный ароматом уже цветущей сирени, которой была засажена вся аллея славы от КПП до плаца.
– Сам понимаешь, выбор у меня небольшой, – продолжил он, – особенно после отправки почти всей ИСР6 туда.
Петренко уже всё прекрасно понял, ладони вспотели сами по себе.
– Твоя кандидатура, можно сказать, чуть ли не единственная. Мне не нужно твое согласие на командировку, но сверху дали понять, что ждут для дальнейшего инструктажа в Москве человека, который готов отправиться на Украину.
На слове «готов» подполковник сделал особый акцент и прикрыл окно, неспеша подошел к серванту, стоящему в углу кабинета возле окна, достал две стопки и графин. Потом поставил их на стол, сел в свое кресло и посмотрел на капитана. Петренко молча ждал развития событий, а в голове уже кружились нехорошие мысли: «Теперь Марина точно заберет дочку и уедет». Как он сообщит это семье именно сейчас, когда любая негативная ситуация может еще больше подломить их совместное будущее? Что ж так всё не вовремя? А может быть наоборот, самое время? За этими мыслями Андрей и не заметил, как Завадский наполнил стопки.
– Пей! Это приказ! – сказал подполковник, пододвинув стопку с водкой капитану. – Сколько ты уже в капитанах? Лет десять?
– Восемь, – поправил Петренко.
– Не велика разница, – произнес Завадский. – Про задание твое я мало знаю, не положено. Но в Москве всё объяснят. И еще знаю, что по возвращению тебя будут ждать майорские погоны. Понимаешь перспективы?
– Приблизительно, товарищ полковник.
Перспективу ходить в майорах сразу после командировки Андрей воспринял настороженно, раз погоны готовы вот так сразу благоволить сверху. Видать, командировка не из рядовых. Хотя словосочетание «рядовая» вообще сейчас не применима ни к чему, что связано с ЧАЭС. А подполковник наполнил по второй и продолжал:
– Раз майора дадут, значит переведут куда-нибудь повыше. У нас в химдыме7 майорских должностей нет. Пей. – Завадский кивнул на стопку Петренко и сам осушил свою емкость. – Семья переедет куда потеплее. Дочку вон в школу нормальную как раз устроишь…
Андрей поперхнулся водкой и закашлялся. Слова подполковника о наболевшем резанули слух как раз в том момент, когда он опрокинул стопку в горло.
Завадский подождал, пока Петренко прокашляется и серьезно спросил:
– Ну, так что? Готов послужить Родине, капитан?
Что можно было ответить? Неясность командировки гнела́, а перспективы хоть тускло, но вырисовывали хороший выход из тупика и накалившихся проблем. Только бы Марина всё правильно поняла и поддержала, ведь теперь Анечка сможет пойти в хорошую школу, как она и хотела, а семья переедет в… Да неважно куда, главное что будет лучше, чем здесь. Поэтому Андрей просто ответил командиру:
– Так точно, товарищ полковник!
– Этого ответа я и ждал, – удовлетворенно проговорил Завадский и наполнил стопки водкой. – Крайнюю выпьем на сегодня.
Офицеры одновременно осушили свои емкости, и подполковник добавил:
– В Москву и дальше с тобой командируются два отделения из взвода обеспечения. Ты – старший.
Петренко посмотрел на подполковника, но вопросов задавать не стал. Да и как сказал Завадский – в Москве всё объяснят.
А подполковник стянул со стола графин и стопки, приподнялся с кресла и коротко по-армейски бросил:
– На этом всё. Тебе нужно выспаться. Выезд уже завтра утром. Свободен.
Первостепенные задачи
Петренко стоял в коридоре генштаба напротив массивной деревянной двери с табличкой, на которой черными буквами на золотистой подложке было выбито «генерал-лейтенант Городец И.С.». Возле кабинета стояли несколько удобных стульев-кресел, но посидеть в них Андрею не довелось. В коридорах туда-сюда сновали разные армейские чины в погонах полковников и генералов, и капитан постоянно вскакивал со стула, чтобы отдать очередному проходящему воинское приветствие, пока совсем не забил на сиденья. Инструктаж был назначен на 11:00. Оставалось несколько минут до назначенного времени, когда к кабинету генерала подошли два человека в форме ВВС – майор и капитан. Они посмотрели на Петренко и, кивнув ему, осторожно произнесли:
– Здравия желаю.
– Здравия желаю, – ответил Андрей.
По всему было видно, что лётчики командированные. Глаза их настороженно бегали по длинному коридору, и также как и Андрей они напрягались и «козыряли» каждому проходящему мимо офицеру.
Наконец дверь кабинета открылась, и в коридор вынырнул невысокий человек интеллигентного вида: аккуратно зализанная прическа, тонкие усики, холеное лицо, наглаженная форма с погонами подполковника. Он бегло осмотрел ожидающих у двери людей, после чего вежливо произнес:
– Товарищи офицеры, Иван Сергеевич ждет вас. Прошу в кабинет.
Дверь в кабинет оказалась двойной. За массивным столом у зашторенного окна в кресле сидел человек в военной форме плотного телосложения с волевым, даже властным выражением лица. По правую руку от него расположился на стуле седой мужчина на вид лет шестидесяти в гражданской одежде и теребил в руках шариковую ручку, периодически постукивая ей о лежащую перед ним папку. Увидев генерала, Андрей приложил руку к фуражке и поспешил доложить:
– Товарищ генерал-лейтенант, капитан Петренко прибыл для полу…
– Отставить! – перебил его генерал. – Садитесь,– произнес он и указал на места за столом.
Все три командированных офицера заняли места по левую руку от хозяина кабинета, а холеный подполковник сел напротив них возле человека в штатском.
Генерал начал без прелюдий:
– У нас ситуация, требующая нашего с вами оперативного вмешательства. Сразу скажу, что все вы подпишите обязательства о неразглашении. Все мы с этого момента являемся одной командой, выполняющей одну задачу, но каждый отвечает за свой профиль работы. Поэтому прежде чем начнем, представлю каждого из вас друг другу.
Генерал пододвинул ближе к себе лежащую на столе папку с грифом «секретно», раскрыл ее и что-то поискал в ней глазами. Затем продолжил:
– Капитан Петренко…
Андрей, услышав свою фамилию, встал со стула:
– Я!
Генерал пренебрежительно махнул рукой:
– Не встаем.
Андрей опустился на стул.
– Капитан Петренко. Андрей Валерьевич. Старший выездной группы, в его подчинении группы эвакуации и охраны, а также оба пилота. – Городец перевел взгляд с Петренко на летчиков. – Майор Шмаков Сергей Алексеевич и капитан Харлан Александр Николаевич, первый и второй пилоты соответственно. Оба недавно вернулись из ДРА, опыт полетов колоссальный. Это состав выездной группы. Далее…
Генерал немного откинулся в кресле и остановил взгляд на человеке в гражданке:
– Профессор Яковенко Владимир Васильевич, – тот кивнул в ответ. – Наш консультант в этой миссии.
Андрей понял, что дело, на которое он подрядился, может быть совсем не той специфики, которую он предполагал, раз уж ученый профессор будет консультировать их в ходе выполнения задачи. Хотя советы компетентных людей никогда не бывают лишними. Некоторые вопросы по цели командировки возникли еще вчера после встречи с Завадским, и теперь добавились еще несколько – кого и куда эвакуировать, что охранять? Про пилотов тоже пока неясно. Ничего, собственно, пока не ясно. Но надо подождать полной информации.
– Ну и подполковник Долинин Игорь Николаевич, мой помощник. – Генерал закрыл и отодвинул папку, после чего опять перевел взгляд на Петренко и летчиков. – Общее руководство этой миссией возложена на меня. У нас будет прямой канал связи, нештатные ситуации и проблемы на месте – сразу выход на меня. Надеюсь, этот пункт понятен.
Офицеры дружно кивнули.
– Вопросы по другим пунктам после получения инструктажа и постановки задач, включая вопросы, относящиеся к компетенции профессора. А сейчас подполковник Долинин введет вас в курс дела подробнее. – Генерал отъехал немного в сторону от стола и кивнул помощнику. – Давай, Игорь.
Подполковник Долинин встал из-за стола и раздал офицерам на подпись обязательства о неразглашении. Затем, аккуратно обогнув генерала, подошел к окну и раздвинул шторы. То, что изначально Петренко принял за зашторенное окно, им вовсе не оказалось. В кабинете вообще, получается, не было окон. За шторами скрывалась карта. По бокам карты для лучшего обзора были расположены лампы дневного света, под картой полочка с указкой. Карта была большой и крупномасштабной, поэтому прекрасно было видно, что львиную ее долю занимала центральная часть Украинской ССР8, части Белорусской ССР и РСФСР9. Прямо по центру карты палитрой цветов выделялся участок Киевской области и черные буквы названий городов, которые в последний месяц не сходили со страниц газет и экранов телевизоров – Чернобыль и Припять. Ни Петренко, ни пилоты не обратили внимания на еще одно название, которое красовалось на карте недалеко от известных городов – Лиманск-13.
– Товарищи офицеры, – начал подполковник, – карта только для служебного пользования, позднее вы ее изучите. Чернобыльский район Киевской области – наша с вами зона интереса.
Подполковник обозначил указкой окружность на карте и постучал ей по точке на местности.
– Здесь расположен закрытый город, которому дано название Лиманск-13. Именно он и является конечной точкой вашего маршрута. – Долинин посмотрел в лица офицеров, в которых читалась сосредоточенность. – Вы не слышали о Лиманске, так как он не фигурирует в открытых источниках. Поэтому я донесу до вас информацию, являющуюся засекреченной, в пределах объема, необходимого для выполнения миссии, само собой. Этот небольшой город с населением чуть более трех тысяч человек имеет особый статус и подчиняется напрямую федеральному руководству. Как и Припять, Лиманск был построен целенаправленно, но, так сказать, для другой области энергетики. Там находится передовой научно-исследовательский институт, – подполковник ткнул указкой в квадратик на севере городка. – Институт обеспечивает деятельность радиозавода, который входит в его структуру, и осуществляет эксплуатацию и обслуживание РЛС10, необходимой для производственных нужд завода и передачи данных в федеральный центр.
Долинин ткнул указкой еще в два соседних квадратика на карте, после чего отошел от нее на шаг:
– Охрану института и его производственных мощностей осуществляет специализированное подразделение, которое постоянно находилось на связи с центром. Ключевое слово – находилось. 4 мая связь пропала и с армейским руководством на месте, и с НИИ11. Задача выездной группы…
– Подожди, Игорь, – перебил подполковника генерал. – Я думаю, сначала Владимиру Васильевичу необходимо дополнить информацию по ситуации в Лиманске.
– Благодарю, Иван Сергеевич, – ученый оживился и заерзал на стуле. – Итак, коллеги. – последнее слово профессор особенно выделил, растянув в слове двойную «л». – Вопросы мне можно и нужно задавать сразу по мере изложения информации, чтобы вас ничего не смущало и не оказалось недопонятым. Вы не против? – взглянул на генерала деятель науки.
– Да, разумеется, – буркнул генерал.
– Ну, значит вот в такой доверительной манере мы и продолжим наше с вами общение, товарищи. – Нарочито улыбчиво обратился профессор к офицерам. – Лиманск-13 был построен как наукоград, обеспечивающий работу НИИ «Радиоволна». Город необходим был в первую очередь для размещения ученых и их семей, технического и обслуживающего персонала, ну и ваших военных для охраны, – Яковенко бросил взгляд на генерала. – Связь Москвы с институтом в Лиманске-13 была постоянной до недавнего времени. В день аварии на АЭС профессор Круглов связался с центром и сообщил, что их приборы не фиксируют повышение радиоактивного фона в городе. И далее, в течение следующей недели, они исправно слали отчеты, в которых показатели радиации не превышали 60 микрорентген в час. Это было очень странно, так как в момент аварии на само́й ЧАЭС все имеющиеся на станции дозиметры с пределом измерения в 1000 ренген моментально вышли из строя, что говорит только об одном – реальные уровни радиации значительно превышали возможности измерительной техники на атомной станции. А «Роза Ветров» вообще отражает, что именно Лиманск-13 и близлежащие села оказывались в зоне максимального радиоактивного заражения.
– Разрешите? – перебил монолог ученого Шмаков – А сколько километров от ЧАЭС до Лиманска?
– Чуть менее восьми, – ответил профессор.
– Тогда почему при начатой общей эвакуации в десятикилометровой зоне сотрудники НИИ не были эвакуированы? Из города вообще была эвакуация населения?
Яковенко нервно стрельнул глазами на генерала, но моментально перевел взгляд обратно на майора и улыбнулся:
– Очень хорошо, молодой человек, что вопросы в нашей дискуссии имеют место быть. Как сказал, уважаемый коллега, товарищ подполковник, до четвертого мая связь с Лиманском-13 была устойчивой, в отчетах цифры показывали относительно безопасный радиационный фон. В срочной эвакуации самого города при таких показателях необходимости не было, хотя штатно к этому было всё готово. А работа научной группы на местах была крайне важна.
– А не могли ученые передавать ложные показатели? – спросил Петренко профессора. – Или приборы вышли из строя под воздействием высокой радиации, как на атомной станции?
– Что Вы? Что Вы? – поспешил заверить Яковенко. – Вся аппаратура, установленная в НИИ имеет дублирующие приборы у нас для дополнительного контроля, в том числе и по радиационному фону. Их показания с момента аварии на АЭС и до момента потери связи с незначительными колебаниями показывали относительно безопасные величины радиации. А по поводу Вашего заявления об умышленном сокрытии данных, в институте работают не просто ученые мужи, а настоящие светила науки. Они живут своей профессией. И уверяю Вас, что не стоит даже допускать мысли о подобном в отношении советских ученых, настоящих патриотов, полностью посвятивших себя своей стране и своему делу.
– Как такое возможно, что в восьми километрах от эпицентра остался безопасный уровень радиации? – задал очередной вопрос Петренко.
Профессор шумно выдохнул:
– Вероятность этого явления может быть обусловлена сочетанием нескольких факторов. Во-первых, между АЭС и Лиманском-13 располагается Лиманский заповедник, довольно обширный лесной массив, стоящий на пути распространения радиоактивных потоков по векторной диаграмме. Он-то и создал некий естественный барьер для распространения радиоактивных частиц на запад. Деревья, особенно хвойные, очень хорошо поглощают и накапливают радионуклиды в своих тканях. Во-вторых, река, протекающая между заповедником и городом, может частично, так сказать, оскуднить бета-излучение от станции, накопив в себе короткоживущие изотопы, такие как теллур-132 и йод-131. Но здесь эффект незначительный, и его стоит учитывать только вкупе с другими условиями… – Профессор немного замялся, окинув взглядом всех присутствующих. – Ну и в-третьих, я думаю самое значительное, здесь уже заслуга РЛС. Характерный тип излучения от РЛС в Лиманске-13 мог значительно затормозить и ослабить поток радиационного заражения.
– Но вдруг антенна вышла из строя, поэтому связь пропала, – не унимался Петренко, – и тогда радиация в Лиманске достигла критического уровня?
– Дублирующая аппаратура в Москве до сих пор характеризует уровень радиационного фона в самом Лиманске-13 как зону повышенного внимания с величиной до 75 микрорентген в час, не более. Хотя после потери связи с НИИ сама величина колебания на приборах заметно сократилась, что дает опасения, что приборы могут передавать не совсем точные данные, – вздохнул профессор. – Это вам и предстоит выяснить на месте. А заодно и разыскать ученых.