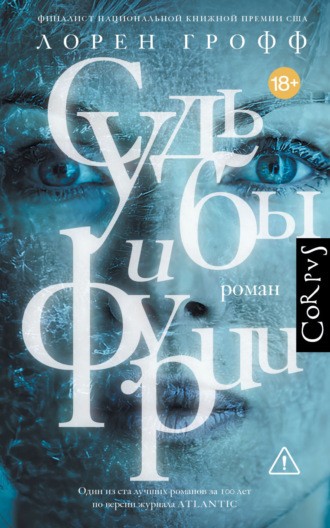
Полная версия
Судьбы и фурии
Весь город видел, как вдову стошнило в азалии и как ее красивый сынок поглаживал мать по спине. Те же высокие скулы, золотисто-рыжие волосы. Красота акцентирует скорбь, бьет прямо в сердце. Хэмлин оплакивал вдову и ее сына, а не грузного Гавейна, своего собрата и соотечественника.
Но рвало ее не только от горя. Антуанетта снова была беременна, ей прописали постельный режим. Месяцами город следил за тем, как подъезжали на шикарных машинах женихи в черных костюмах, с портфелями, следил и гадал, кого же она предпочтет. Кто не захочет себе в жены вдову столь богатую и привлекательную?
Лотто тонул, шел ко дну. Он пытался забросить учебу, но учителя привыкли считать его отличником и в поддавки не играли. Пытался слушать с матерью, держа ее за отекшую руку, религиозные передачи, но Бог его раздражал. Укоренились в памяти только зачатки: притчи, моральная стойкость, стремление к чистоте.
Антуанетта целовала его в ладонь и отпускала, лежа в своей постели, вялая, как морская корова. Ее чувства покоились под землей. На все вокруг она смотрела словно из далекого далека. Толстела себе да толстела. И наконец раскололась, словно огромный плод. Из нее выпало зернышко, крошка Рэйчел.
Когда Рэйчел кричала ночью, Лотто первым вставал к ней, садился в кресло и кормил смесью, покачивая. Она помогла ему пережить первый год, сестричка, которая была голодна, а он обладал возможностью насытить ее.
Физиономия у него покрылась угревой сыпью, прыщами, горячими и пульсирующими под кожей; он перестал быть красавчиком. Наплевать. Девчонки и так из кожи вон лезли, чтобы поцеловаться с ним, то ли из жалости, то ли потому, что богат. Он сосредотачивался на мягких, илистых девичьих ртах (виноградная жвачка и горячий язык) и так избавлялся от ужаса, который в нем обитал. Вечеринки с поцелуями по углам, в парках ночью. Он возвращался домой по темной Флориде, крутя педали быстро, как только мог, стремясь обогнать, опередить печаль, но печаль всегда была прытче и легко овладевала им снова.
Через год и день после смерти Гавейна четырнадцатилетний Лотто спустился на рассвете в столовую. Думал взять с собой пяток сваренных вкрутую яиц, чтобы подзаправиться по пути в город, где его ждала Трикси Дин, родители которой уехали на выходные. В кармане у него лежал баллончик аэрозоля от коррозии, на основе уайт-спирита. Парни в школе сказали, смазка – это важно.
– Милый, у меня новости, – донесся из темноты голос матери.
Он вздрогнул и, включив свет, увидел ее в черном костюме на дальнем конце стола, с зачесанными вверх волосами, коронующими ее, как пламя.
«Бедная Мувва, – подумал он. – Неухоженная какая. Растолстела. Думает, мы не знаем, что она так и сидит на болеутоляющих, которые стала принимать после Рэйчел. Думает, для нас это тайна. Нет».
Несколько часов спустя Лотто стоял на пляже, пытаясь сморгнуть слезы. Мужчины с портфелями были адвокаты, никакие не женихи. Все пошло прахом. Слуг больше нет. Кто будет все делать за них? Усадьба, детство, разливочный завод, бассейн, Хэмлин, где его предки жили века, – все, все пропало.
Призрак отца исчез. Продан за несусветную сумму.
Район, куда они съехали, был, вообще говоря, неплохой, Кресчент-Бич, но домик крошечный, розовый, стоял на сваях над дюнами, как бетонный кубик «лего» на ножках. Внизу все заросло пальмами, и пеликаны плаксиво переговаривались на горячем соленом ветру. Пляж такой, что можно гонять на машине. Пикапы, из которых ревел трэш-метал, прятались в дюнах, но в доме их было слышно.
– Вот это вот? – переспросил он. – Да ты могла бы купить сто миль пляжа, Мувва. Почему мы должны жить в этой коробке? Почему здесь?
– Дешево. Плюс потеря права выкупа, – с улыбкой мученицы произнесла мать. – Деньги ведь не мои, милый. Они твои и твоей сестры. Все в доверительном управлении на ваши имена.
Но что за дело ему до денег? Деньги он ненавидел. [Всю жизнь старался не думать о них, предоставляя другим беспокоиться, а сам считал, что у него и так всего вдоволь.] Деньги не были ни отцом, ни отцовской землей.
– Это кощунство, – сказал Лотто, рыдая от ярости.
Мать взяла в руки его лицо, стараясь не коснуться прыщей.
– Нет, милый, – лучезарно улыбнулась она. – Это свобода.
Лотто злился. Одиноко сидел на песке. Тыкал палками в дохлых медуз. Пил коктейли с замороженным соком у круглосуточного магазинчика при автозаправке на прибрежном шоссе А1А.
А потом подошел за горячей лепешкой тако к киоску, где обедали крутые ребята, он, этот мини-яппи в футболке поло, шортах «мадрас» и туфлях «доксайдерс», хотя нравы тут были такие, что девушки ходили по магазинам в бикини, а парни оставляли рубашки дома, пусть мускулы бронзовеют. В нем уже было шесть футов росту, а в конце июля четырнадцать превратится в пятнадцать. [Он был Лев, что полностью его объясняет.] Локти и коленки в ссадинах, волосы на затылке в вихрах. Несчастная, вся в угрях кожа. Растерянный, сбитый с толку, наполовину осиротевший, он вызывал желание обнять, утешить и приласкать. Девчонки обратили внимание, подкатили, стали спрашивать, как зовут, но он был слишком подавлен, чтобы интересничать, и они отстали.
Он ел сам по себе за столом для пикника. К губе прилипла соринка кинзы, что рассмешило прилизанного мальчика-азиата. Рядом с азиатом девчонка: грива с начесом, глаза подведены стрелками, губы в красной помаде, в бровь вколота английская булавка, а в носу блестит якобы изумруд. Она так в упор пялилась, что у Лотто зазудело в ногах. Стало ясно, хоть он не понял, с чего, что она очень даже по сексу. Рядом с ней сидел толстый мальчик, очкастый, с хитроватым лицом, ее близнец. Азиата звали Майкл, а рьяную девочку – Гвенни. Толстый был у них главным. Его звали Чолли.
В тот день там был еще один Ланселот, коротко Лэнс. Так уж совпало. Лэнс был недокормленный, тощий, бледный, похоже, из-за недостатка овощей в рационе. Ходил он, притворяясь, что хромоног, в шляпе набекрень и футболке такой длины, что со спины она мешком свисала ему ниже колен. Шлепая ртом в такт шагам, он отправился в туалет, а когда вернулся, то от него воняло. Кто-то, стоя сзади, дал ему пинка, и из-под футболки вывалилась маленькая какашка. Кто-то выкрикнул:
– Лэнс обосрэнс! – это ходило по кругу некоторое время, пока кто-то другой не вспомнил, что среди них есть еще один Лэнс, уязвимый, новенький, хлопающий глазами, чудной на вид, и к Лотто пристали:
– Что, малец, мы тебя обосраться как напугали?
– Как там тебя полностью кличут, а? Сэр Лансепоп?
Он ссутулился, бросил, что не доел, и поплелся прочь. Близнецы с Майклом догнали его под финиковой пальмой.
– Это настоящее поло? – спросил Чолли, щупая рукав Лотто. – Если да, то восемьдесят баксов за штуку.
– Чолл! – шикнула на него Гвенни.
– Позор консьюмеризму, – сказал Лотто, дернув плечом, и добавил: – Да подделка, я думаю, – хотя это явно было не так.
Они всмотрелись в него.
– Интересно, – сказал Чолли.
– Он клевый, – сказал Майкл.
Оба перевели взгляд на Гвенни, которая, щурясь на Лотто, сузила глаза так, что они превратились в щелочки, обрисованные размазанной тушью.
– Ну, ладно, – вздохнула она. – Думаю, мы можем его принять.
Когда она улыбалась, на щеке возникала ямочка.
Они были чуть постарше, перешли в одиннадцатый класс. Они знали то, чего не знал он. С того дня смысл жизни сместился к пляжу, пиву, наркотикам; он украл у матери обезболивающие, чтобы разделить их с друзьями. Днем скорбь по отцу притуплялась, ночью он просыпался в слезах. Наступил день рождения, он открыл поздравительную открытку и нашел в ней сумму, которая выдавалась ему еженедельно; пятнадцатилетний подросток счел это ужасно глупым. Лето протянулось вглубь учебного года, начало девятого класса осталось в памяти развеселой легкой гульбой. После уроков неизменно пляж допоздна.
– Попыхти этим, – говорили друзья. – Покури это.
Он пыхтел, курил, на короткий срок забывался.
Из трех новых друзей самой интересной была Гвенни. В ней что-то будто сломалось, но никто не хотел рассказать ему, что. Она переходила четырехполосное шоссе где и когда хотела; в магазинах запихивала себе в рюкзак баллончики со взбитыми сливками[2]. Она казалась ему дикой, неодомашненной, хотя близнецы жили на ранчо, в полной семье, у них было двое родителей, а в школе Гвенни в своем одиннадцатом три предмета изучала по программе повышенной сложности. Гвенни вздыхала по Майклу, Майкл хватал за коленку Лотто, когда другие не видели, а Лотто спал и видел, как разденет Гвенни и заставит ее себя трогать; как-то темным вечером он взял ее за холодную руку, и она руки не отняла, он сам сжал ее и отпустил. Иногда они все виделись ему как бы с высоты птичьего полета: круг за кругом гоняются друг за другом, и только Чолли особняком, мрачно наблюдает за бесконечным кружением, изредка пробуя встрять.
– Знаешь, – как-то сказал он Лотто, – мне кажется, до тебя у меня не было ни одного настоящего друга.
Они были в игротеке в пассаже, рубились в видеоигры и философствовали: Чолли – наслушавшись кассет, которые взял в Армии спасения, а Лотто – начитавшись учебника для девятого класса, который мог цитировать, не разбирая смысла. Лотто оглянулся, услышав эти слова, и увидел отражение колобка Пакмана в жирном блеске на лбу и на подбородке Чолли. Тот поправил очки и отвел глаза.
Лотто растрогался.
– Ты тоже мне нравишься, – сказал он, сам и не зная, что это правда, пока не проговорил вслух: Чолли, с его неуклюжестью, одинокостью и природной тягой к деньгам, напоминал Лотто отца.
Такая необузданная жизнь длилась только до октября. Всего несколько месяцев, а потом резкая перемена.
Вот он, поворотный момент, ранний вечер субботы.
Они на пляже с утра. Чолли, Гвенни и Майкл заснули на красном одеяле. Прожаренные солнцем, просоленные океаном, во рту кисло от пива. Бекасы и пеликаны, чуть подальше цапля-удильщик выхватила из воды золотистую рыбку длиной в фут. Лотто все смотрел и смотрел, пока не сложилась перед глазами картинка, которую он видел в книге: красного цвета море и кремнистая дорожка, воткнутая в него, как загнутый язычок колибри[3].
Лотто поднял лопатку, забытую каким-то ребенком, и начал копать. Кожа стянута, будто намазана резиновым клеем; ожоги печет, но мускулы под ними радуются движению. Сильное тело – блаженство. Море шипело и рокотало. Понемногу проснулись и остальные трое. Гвенни поднялась на ноги, шлеп-шлеп лямки бикини. Господи, он бы вылизал ее всю, от макушки до пальчиков на ногах. Она глянула, чем он там занят, – и поняла. Крутая девчонка, с пирсингом и татушками, как у уголовников, которые сама сделала, булавками и чернильной ручкой, и глаза ее переливаются через подводку. Опустилась на колени и локтями взялась разгребать песок. Из грузовичка пляжной охраны Чолли и Майкл стащили лопаты. Майкл вытряхнул на ладонь амфетамин из пузырька, который он спер у матери, и каждый по таблетке слизнул. Копать стали по очереди, сцепив зубы.
Четверо неблагополучных детей в начале октября, сквозь сумерки в темноту. Неспешно всплыла луна, пустив по воде белую струйку. Майкл собрал плавник, развел костер. Бутерброды, присыпанные песком, они давно съели. Ладони в кровавых волдырях. Это было неважно. В самое сокровенное место, в зародыш спирали, они опрокинули боком вышку спасателя, зарыли ее и плотно утоптали песок. Стали угадывать, один за другим, что Лотто держал в голове, затевая эту скульптуру: моллюска-наутилуса, побег папоротника, галактику? Нить, свисающую с веретена? Силы природы, совершенные в своей красоте и эфемерные совершенно? Они гадали, а он стеснялся сказать: «время».
Он проснулся тогда с пересохшим языком и с намерением сделать абстрактное конкретным, воплотить то, что сейчас во сне понял: время так и устроено, оно – спираль.
Бесполезность усилий и недолговечность трудов соответствовали задаче.
Океан подступал все ближе. Лизал им ноги. Толкался во внешнюю стенку спирали, прокладывал путь внутрь. Когда вода размыла песок и показались внизу перекладины вышки спасателя, белые, словно кость, что-то сломалось, и осколки разлетелись по будущему.
[Этот день извернется дугой и все-все собой озарит.]
Уже на следующую ночь это все и закончилось. Чолли, раздухарившись под кайфом, в темноте спрыгнул все с той же вышки спасателя, снова водруженной стоймя. На мгновение его силуэт обрисовался на фоне полной луны, но затем он приземлился – под отвратительный хруст кости. Ногу сломал. Майкл спешно повез его в больницу, оставив Гвенни и Лотто на неосвещенном пляже, на холодном осеннем ветру. Гвенни взяла Лотто за руку. Он почувствовал, как по коже побежали мурашки: пришел час, он вот-вот расстанется с девственностью. Она уселась на руль его велика, и они двинули на вечеринку, в какой-то заброшенный дом на болоте.
Там попили пивка, наблюдая, как ребята постарше тусят вокруг большого костра, а потом Гвенни потащила Лотто по дому. Свечи в жестянках на подоконниках, на полу матрасы, блики на коленках, плечах и ягодицах. [Зов плоти! Вечная история, обновляемая молодыми телами.]
Гвенни распахнула окно, они вылезли и уселись на крыше веранды. Она что, плакала? Тушь расползлась по скулам, пугая потеками. Она первая приникла губами к его губам, и у Лотто, который не целовался с тех пор, как обосновался на пляже, знакомо потекла по жилам раскаленная лава.
Веселились вокруг шумно.
Оттолкнув, она уложила его спиной на шершавый толь. Он смотрел на ее светящееся лицо, а она приподняла юбку, сдвинула вбок ластовицу, и Лотто, который всегда, всегда был готов включиться в самые неожиданные фантазии на тему – след кулика на песке намекал ему на промежность, галлонные бутыли молока приводили на ум сиськи, – оказался не готов к такому стремительному началу.
Ну и ладно. Гвенни запихнула его в себя, хотя сама была сухая совсем. Он прикрыл глаза и стал думать о манго и о папайе, фруктах терпких и сладких, сочащихся соком, а потом стало не до того, он застонал, и все тело его растеклось в мед, а Гвенни глянула на него, и на искусанных губах у нее разрослась улыбка, и она закрыла глаза и отдалилась куда-то, и чем больше она отдалялась, тем сильнее стремился к ней Лотто, словно гнался за лесной нимфой. Припомнив тайные уроки порножурналов, он перевернул ее, поставил на локти и колени, и она посмеивалась над ним, глядя через плечо, а он закрыл глаза и вломился, почувствовал, как она выгнулась, словно кошка, зарылся пальцами в ее волосы, – и вот тогда заметил рвущееся из окна пламя. Но остановиться не мог. Никак. Понадеялся просто, что дом продержится, выстоит, пока Лотто не кончит. О, что за кайф, это его стихия. Вокруг все трещало и обжигало, обдавало жаром, как солнце, Гвенни содрогалась под ним, и – раз-два-три! – он взорвался внутри нее.
И тут же закричал ей на ухо: уходим, уходим, бежим! Даже оправляться не стал, а подполз к краю крыши и спрыгнул в заросли саговых пальм внизу. И Гвенни слетела к нему, распустив юбку тюльпаном. Они выползли из кустов – у него стручок свисал из ширинки – навстречу ехидным аплодисментам пожарных.
– Отличная работа, Ромео, – сказал один из них.
– Ланселот, – прошептал он.
– Зови меня Дон Жуан, – сказал полицейский, защелкивая наручники сначала на Лотто, а потом и на Гвенни.
Ехать было недалеко. Она даже не глянула на него. Он больше никогда ее не увидит.
Потом была камера с вонючим, как тролль, унитазом в углу, лампочка под потолком, которая шипела-шипела и наконец лопнула на рассвете, осыпавшись стеклянным дождем, и Лотто ползал по полу, выискивая осколок, который сгодился бы вместо бритвы.
Дома. Унылое личико Салли, Рэйчел с пальцем во рту, приникшая к Лотто. Ей только год, а уже скрутило всю от тревоги. Решено: они упрячут его подальше от этого хулиганья, от малолетних преступников. Антуанетта прикрыла за собой дверь, хрустнула пальцами и подняла телефонную трубку.
Наличные смажут какое угодно колесо. К вечеру все было сделано. К вечеру он уже поднимался по трапу в самолет. Оглянулся. Салли с Рэйчел на руках, обе плачут. Антуанетта стоит, уперев руки в бока. Лицо перекошено. Злится, показалось ему. [Он ошибался.]
Люк закрылся за Лотто, мальчиком, изгнанным за грехи.
Ничего не осталось в памяти от перелета на север, только оцепенение. Проснуться утром, в окне солнце и Флорида, а улечься спать в тот же день в холодном мраке Нью-Гэмпшира! Общежитская спальня смердела немытыми ногами. Живот сводило от голода.
В тот вечер в столовой за ужином ломоть тыквенного пирога влепился ему в лоб. Он поднял глаза и увидел, что парни смеются над ним. Кто-то крикнул: «Бедный тыквенный пай!» Кто-то еще: «Бедный пай из Флориды!» И еще кто-то: «Пай из ебеней!» – вызвав гуще всего ржание. В общем, так его и прозвали. Он, всю свою жизнь ходивший повсюду в зной и жару так, будто все вокруг принадлежало ему [он и был там хозяином, точно], теперь, втянув голову в плечи, неуверенно ставил ногу на промерзлый асфальт. Пай-Из-Ебеней, деревенщина для этих мальчиков из Бостона и Нью-Йорка. Прыщавый, утративший свою детскую миловидность, слишком длинный, слишком худой. Южанин, особь второго сорта. Богатство, которое когда-то выделяло его, между богатых не значило совсем ничего.
Он просыпался перед рассветом, дрожа, спускал ноги с кровати, глядел, как светлеет в окне. «Фа-тум, фа-тум», – стучало сердце. Кафетерий, холодные блинчики и недоваренные яйца, потом – по схваченной льдом земле к часовне.
Он звонил домой каждое воскресенье в шесть вечера, но Салли не была расположена поболтать, Антуанетта нигде не бывала и мало что могла сообщить, кроме того, что ей сказали по телевизору, а Рэйчел еще слишком мала, чтобы составить связное предложение. Минут через пять приходилось класть трубку. Снова темное море, в котором плыть до следующего звонка.
Тепла в Нью-Гэмпшире не водилось. Даже с неба несло холодом, как от жабы. В половине шестого, когда открывался тренажерный зал, Лотто шел к джакузи у бассейна, выжарить лед из костей. Витал в пару, представляя, как друзья покуривают на солнце. Будь с ним Гвенни, они перепробовали бы уже все мыслимые способы спаривания, даже апокрифические. Один Чолли ему писал, хотя редко что-то длинней шутки на порнооткрытке.
Лотто подумывал о балках спортзала, они были на высоте футов в пятьдесят, не меньше. Прыжок ласточкой на мелководье положит всему конец. Или нет, лучше залезть на крышу обсерватории, обвязать шею веревкой и спрыгнуть. Нет. Пробраться в хозблок, набрать порошков, которыми чистят ванные, наесться их, как мороженого, пока внутренности не вспенятся и не полезут наружу. В воображении уже присутствовал момент театральности.
Приехать домой ни на День благодарения, ни на Рождество ему не разрешили.
– Я что, до сих пор наказан? – спросил он, стараясь, чтобы голос звучал по-взрослому ровно, но сорвался.
– Ну что ты, милый, – ответила Салли. – Это не наказание. Твоя мама хочет, чтобы у тебя была лучшая жизнь.
Лучшая жизнь?! Да его зовут здесь Пай-Из-Ебеней! Не приученный сквернословить, он даже пожаловаться домашним, что за прозвище ему дали, не мог. Одиночество взвыло громче. Тут все занимались спортом, его определили грести в восьмерке новичков, так что ладони пошли волдырями, которые затвердели в мозоли, себе же броней.
Его вызвал декан. До него дошло, что у Ланселота проблемы. Оценки отличные, не тупой. В чем дело? У декана брови были как те гусеницы, что за ночь могут сожрать целую яблоню. Да, сказал Лотто, да, мне здесь плохо. Хм, хмыкнул декан. Парень хорошего роста, неглуп и богат. [И белый.] Такие парни, как он, рождены стать лидерами. Возможно, предположил декан, если купишь специальное мыло для лица, то займешь на ступеньках место повыше? У него есть приятель, кстати, который мог бы выписать рецепт, – и принялся искать блокнот, чтобы дать телефон. В открытом ящике знакомо блеснул маслянистый бок пистолета. [Прикроватная тумбочка Гавейна, кожаная кобура.] Только это и видел Лотто перед собой, когда, спотыкаясь, влачил свои дни дальше: промельк пистолета, тяжесть которого он ощущал в руках.
В феврале на уроке английской литературы дверь класса открылась, и вошел уродец в красной накидке. Правда, личико как у гусеницы. Тестоватое, жирно блестит, редкие волоски. По классу пробежался смешок. Сбросив свою накидку, коротышка написал мелом на доске «Дентон Трэшер». Закрыл глаза, и когда открыл, лицо его было искажено болью, а руки вытянуты так, будто он держит перед собой что-то тяжелое. Корделию.
Вопите, войте, войте! Вы из камня!Мне ваши бы глаза и языки —Твердь рухнула б!.. Она ушла навеки…Да что я, право, мертвой от живойНе отличу? Она мертвее праха.Не даст ли кто мне зеркала? КогдаПоверхность замутится от дыханья,Тогда она жива.[4]Тишина. Никаких смешков. Класс замер.
А у Лотто неведомое ему прежде местечко внутри высветилась, зажглось. Вот он, ответ на все вопросы. Ты можешь отставить себя, отстранить, превратиться в того, кто не ты. Можешь заткнуть рот самому страшному в мире – комнате, полной злых мальчишек. После смерти отца у Лотто перед глазами все расплылось. В этот момент к нему вернулась острота зрения.
Пришелец тяжко вздохнул и снова обратился собой.
– Ваш учитель подхватил какую-то хворь. Плеврит. Или менингоэнцефалит. Я буду вместо него. Я – Дентон Трэшер. А теперь скажите-ка мне, мальцы, что вам задано прочитать?
– «Убить пересмешника», – прошептал Арнольд Кэбот.
– Господи, спаси и помилуй, – пробормотал Дентон Трэшер, подхватил мусорную корзину и прошелся по рядам, сбрасывая в нее книжки в мягкой обложке. – Стоит ли забивать голову обычными смертными, когда едва подступился к Барду! Нет уж, пока я тут, вы будете потеть над Шекспиром. И они еще смеют называть это прекрасным образованием! Да если так дальше пойдет, через двадцать лет нами будут править японцы. – Он присел на край стола, упершись руками в бедра у паха. – Прежде всего, – сказал он, – объясните-ка мне, в чем разница между трагедией и комедией.
– Серьезность и смех, – сказал Франсиско Родригес. – Весомость и легкость.
– Неверно, – сказал Дентон Трэшер. – Обман зрения. Разницы нет. Всего лишь вопрос видения. Повествование – это панорама, а драма – то комедия, а то трагедия. Все зависит лишь от того, как оформить то, что ты видишь. Вот смотрите. – Он сложил пальцы в рамку и стал водить ею по классу, пока не остановился на Повидле, печального вида мальчике с шеей, которая болталась в воротнике.
Дентон проглотил то, что собирался сказать, и передвинул свою рамку на Сэмюэла Харриса, шустрого, всеми любимого мулата, рулевого той лодки, где Лотто был гребцом, и сказал:
– Трагедия!
Класс грохнул, и Сэмюэл хохотал громче всех; его вера в себя была как стена ветра. Дентон Трэшер передвинул рамку так, что в ней появилось лицо Лотто, и Лотто со своей стороны увидел, как тот смотрит на него своими глазами-бусинками.
– А это комедия, – провозгласил Трэшер.
Лотто смеялся со всеми, но не потому, что стал героем инсценировки, а из благодарности к Дентону Трэшеру. Тот открыл ему театр. Вот он, единственный способ, которым Лотто сможет существовать в этом мире.
Он сыграл Фальстафа в весенней постановке, но, когда смыл грим, в него снова вползло его собственное жалкое «я».
– Браво! – воскликнул Дентон Трэшер на прочтенный в классе монолог из «Отелло», но Лотто лишь скривил губы в полуулыбке и отправился на свое место.
В тренировочном заезде его восьмерка новичков опередила сборную по академической гребле, и Лотто повысили до загребного, который задает ритм. Но в душе царило уныние, даже когда распустилась листва и вернулись птицы.
В апреле Салли позвонила, в слезах. Лотто нельзя приехать домой на лето. «Есть… опасности», – сказала она, и он понял: она про то, что его друзья всё еще вьются поблизости. Он представил, как Салли, за рулем, видит, что они идут по шоссе и как ее руки сами собой направляют машину на них наехать. А ему так хотелось обнять сестру; она выросла, она даже не вспомнит его. Хотелось съесть что-то, приготовленное руками Салли. Вдохнуть запах духов матери, услышать, как мечтательным своим голоском она рассказывает о Моисее или Иове так, будто то были люди, которых она знала лично. «Пожалуйста, – прошептал он, – я очень прошу, я даже из дому не выйду!» И Салли сказала ему в утешение, что летом они втроем его навестят и съездят все вместе в Бостон.
Флорида в воображении представилась пылающим солнцем. Ослепнешь, если взглянешь в упор. Детство скрылось за пламенем, не разглядеть.
Он в отчаянии повесил трубку. Оставшийся без друзей. Всеми покинутый. Взвинченный жалостью к самому себе.
План сложился за ужином, после битвы шоколадными брауни с мятой.
Дождавшись, когда стемнеет и цветы на деревьях станут как бледные мотыльки, Лотто вышел на улицу.
В административном здании – кабинет декана, в кабинете – письменный стол, в ящике стола – пистолет. Он представил, как декан утром откроет дверь, увидит брызги, как отшатнется и сделает шаг назад.






