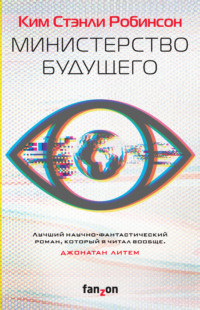Полная версия
Марсиане (сборник)
С такими мыслями Мишель бродил по главной комнате хижины и разглядывал освещенные серым светом артефакты. Скотт выстроил стену из ящиков, чтобы отделить офицеров и ученых от простых моряков. Столько разных аспектов быта – у Мишеля разбегались глаза.
Затем они полетели на мыс Ройдс, где, будто в укор жилищу Скотта, стояла хижина Шеклтона – меньшего размера, более уютная, лучше защищенная от ветра. Вообще все там было лучше. Шеклтон и Скотт поссорились во время первой экспедиции в Антарктику в 1902-м. Схожие разногласия могли возникнуть и в марсианской колонии, но там уже нельзя будет построить себе новое жилище в другом месте. По крайней мере, в первое время. И нельзя будет вернуться домой. Во всяком случае, так следовало из плана. Но было ли это мудро? Здесь аналогия с первыми исследователями Антарктики вновь рассыпалась на части – ведь какими бы неудобными ни казались им эти хижины (а у Шеклтона в самом деле все по-домашнему), они знали, что отправлялись туда всего на год-два-три, после чего вернутся обратно в Англию. Зная, что всему этому настанет конец, который с каждым днем все ближе, пережить можно почти все. В противном случае это было бы все равно что смертный приговор – когда на самом деле нет выхода. Изгнание в антарктическую пустошь, где нет ничего, кроме холодных мертвых камней.
Конечно, имело смысл отправлять на Марс по очереди ученых и техников, примерно так же, как было с ранними исследователями Антарктики. Периодические дежурства на небольших научных станциях, которые строились и управлялись непрерывно, но меняющимися командами, чтобы никто не задерживался там дольше трех лет. К тому же это способствовало тому, чтобы не превысить максимальную дозу радиации. Бун и другие, кто слетал туда два года назад и вернулся, получили около тридцати пяти рад. Следующим стоило также придерживаться этой величины.
Но американские и российские космические программы установили иначе. Организаторам полета нужна была постоянная база, и они звали ученых улететь навсегда. Они хотели от них самоотверженности, при этом, без сомнения, надеясь вызвать общественный интерес и на Земле, – интерес к постоянному составу участников, которых можно было запомнить, чьи жизни могли превратиться в драму для всеобщего потребления, вызывающую привыкание, – и из чьей биографии можно было устроить зрелище. И получить дополнительное финансирование. Вот что имело смысл.
Но кто бы захотел этого для себя? Этот вопрос очень волновал Мишеля, ведь здесь он видел главную пару противоречивых требований, что предъявлялись к кандидатам. Если описать их вкратце, то люди должны быть вменяемыми, чтобы их отобрали, но сумасшедшими, чтобы хотеть туда отправиться.
Помимо этого главного противоречия существовало и множество других. Претенденты должны быть достаточно экстравертивны, чтобы жить в общине, но и достаточно интровертивны, чтобы мастерски овладеть своей наукой. Им полагалось быть достаточно старыми, чтобы освоить свои первые, вторые и иногда третьи профессии, но и достаточно молодыми, чтобы справляться с нагрузками во время полета и жизни в колонии. Они должны были хорошо ладить в группах, но при этом хотеть навсегда бросить всех, кого знали. Их просили рассказывать правду, но им приходилось откровенно лгать, чтобы повысить свои шансы получить то, чего хотели. Им нужно было, по сути, оказаться одновременно обычными и необычными.
И этим противоречиям не было конца. Тем не менее из начального списка, в котором числились тысячи претендентов, набрался уже почти окончательный состав этой группы. А противоречия? Ну и что, подумаешь! Ничего особенного. Все на Земле было сплетено из резких противоречий. Полет на Марс, впрочем, мог даже уменьшить их число и немного сгладить! Может даже, это было одной из целей полета!
Наверное, за этим же отправлялись на юг те первые исследователи Антарктики. И все равно, пока Мишель осматривался в этой пустой деревянной комнате, ему казалось поразительным, что тем, кто здесь зимовал, удалось сохранить рассудок. На стене хижины Шеклтона висела фотография: трое мужчин, ютящиеся возле черной печи. Мишель всмотрелся в изображение. Мужчины были истощенными, грязными, с признаками легкого обморожения. Но вместе с тем имели вид спокойный и даже умиротворенный. Они могли просто сидеть, наблюдая, как огонь горит в печи, и этого им было достаточно. От них веяло холодом, но в то же время ощущалось и тепло. Сама природа мозга тогда была иной – более приспособленной к тяготам жизни и к долгим часам чисто животного существования. Изменилась с тех пор и природа чувств – это определялось культурой, поэтому мозг тоже, несомненно, должен был измениться. Сейчас, спустя столетие, мозг зависел от значительных стимуляций, которые попросту отсутствовали у более ранних поколений. Поэтому полагаться на внутренние ресурсы теперь было сложнее. Терпение требовало бо́льших усилий. Они уже не являлись теми животными, что были изображены на фото. Эпигенетическая связь ДНК и культуры меняла людей так быстро, что даже столетия хватало, чтобы создать ощутимую разницу. Шла ускоренная эволюция. Или один из тех пунктирчиков в ее длинной прерывистой линии. И Марс во многом должен был стать чем-то подобным. И в кого они превратятся тогда, предсказать было невозможно.
Когда Мишель вернулся на озеро Ванда, старые хижины сразу показались ему сном, врывающимся в единственную реальность, настолько холодную, что само пространство-время будто застыло, оставив их всех переживать снова и снова один и тот же час. Холодный круг ада Данте, как он помнил, был худшим из всех.
Все они страдали от сенсорной депривации. Каждое «утро» он просыпался в дурном настроении и лишь через несколько часов приходил в себя и сосредотачивался на делах. Тогда за окнами уже виднелись синие сумерки, и он спрашивал, к кому можно присоединиться в вылазке наружу. Там он бродил в этих сумерках, становившихся серыми, синими или пурпурными, ходил следом за плотно укутанными фигурами, похожими то ли на странников средневековой зимы, то ли на доисторических людей, пытающихся выжить в ледниковый период. Одним стройным свертком могла быть Татьяна, чья красота сейчас словно приглушена, но не скрыта полностью: она двигалась, будто в танце, по зеркальной глади озера меж высоких стен долины. Другим могла быть Майя – она уделяла все внимание остальным, а с Мишелем вела себя скорее по-дружески и даже дипломатично. Это его беспокоило. Рядом с ней шагал Фрэнк, грузный и укутанный до неузнаваемости.
Татьяну понять легче. И она так привлекательна! Однажды он прошел за ней поперек всего озера, и, оказавшись на дальнем берегу, они остановились, чтобы осмотреть иссохший труп тюленя. Этих заблудших тюленей Уэдделла часто находили в сухих долинах, где они пролежали мертвыми сотни и тысячи лет, замороженные и медленно обветриваемые, – пока не начинал медленно проступать скелет, словно их душа снимала меховую шубу и показывала себя – белоснежную, отполированную ветром и сложенную из ровных элементов.
Татьяна, взволнованная увиденным, схватила его за руку. Она хорошо говорила по-французски благодаря тому, что часто проводила лето на пляжах Лазурного Берега в детстве, – и лишь мысль об этом заставляла Мишеля буквально таять. И сейчас они говорили, держась за руки в перчатках, и смотрели сквозь стекла лыжных масок на освещенный серым светом скелет. Его сердце билось сильнее, когда он думал, какая красота скрыта в этом пуховике рядом с ним, в то время как она говорила:
– Поразительно! Прийти вот так и увидеть позвонки этого бедняжки, совсем одни среди скал, будто чей-то потерянный браслет.
С другого берега озера за ними наблюдал Фрэнк.
С тех пор Майя окончательно бросила Мишеля, не сказав ни слова, не подав ни знака, – кроме единственного взгляда на Татьяну в его присутствии, после которого сохраняла с ним лишь формальную вежливость, но не более того. А вот Мишель теперь знал совершенно точно, с кем из всей группы ему хотелось общаться больше всего, но такой возможности у него теперь не было.
Из-за Фрэнка.
И вокруг происходило то же самое – бессмысленные сердечные войны. Все такое мелкое, незначительное, пустяковое. И тем не менее все имело значение – ведь это была их жизнь. Сакс и Энн словно умерли друг для друга, равно как Марина и Влад, Хироко и Ивао. Стали образовываться новые группировки – вокруг Хироко, Влада, Аркадия и Филлис, которые будто вращались каждый на своей орбите. Нет, их община была обречена. Она распадалась на глазах. Трудно было жить в изоляции, страдая от этой сенсорной депривации, – а ведь по сравнению с Марсом эта жизнь должна выглядеть настоящим раем! Здесь нельзя было провести достойное испытание. Нельзя найти подходящий аналог. Была лишь реальность, уникальная и меняющаяся каждую секунду, где приходилось жить без тренировок и повторений. Марс не будет похож на эту долгую холодную ночь на краю мира – он будет хуже. Еще хуже этого! Они сойдут с ума. Сотню людей запрут в отсеках и отправят на губительную холодную планету, по сравнению с которой антарктическая зима казалась раем, – в большую вселенскую тюрьму. Они все сойдут с ума.
За первую неделю сентября полуденные сумерки стали почти совсем светлыми, и на окаймляющих глубокую долину вершинах Асгарда и Олимпийской гряды уже разливалось солнце. Поскольку долина между этими высокими грядами была довольно узкой, солнце должно было проникнуть в нее только дней через десять, и Аркадий организовал подъем по склону горы Один, чтобы первым его там увидеть. Оказалось, что увидеть солнце первыми захотелось почти всем, и идея выросла в крупную экспедицию. В результате утром десятого сентября они стояли примерно в тысяче метров над озером Ванда на уступе, где находилось небольшое ледниковое озерцо. Было ветрено, и ничто их не согревало. Беззвездное небо приняло бледно-голубой оттенок, а восточные склоны обеих гряд, залившись солнечным светом, покрылись золотом. Наконец на востоке, где заканчивалась долина и виднелась замерзшая гладь моря Росса, из-за горизонта показалось и ярко вспыхнуло солнце. Они приветствовали его одобрительными возгласами, глаза загорелись от нахлынувших чувств при виде нового света. Все бросились обниматься – только Майя держалась далеко от Мишеля, и между ними всегда находился Фрэнк. Мишелю казалось, что их радость была такой отчаянной, словно они только что пережили массовое вымирание.
Когда пришло время отчитываться в отборочном комитете, Мишель не рекомендовал осуществлять проект в том виде, как планировалось. «Никакая группа не способна сохранять функциональность в таких обстоятельствах неопределенный период времени», – написал он, а потом, на совещаниях, изложил свою позицию попунктно. Особое впечатление в ней производил длинный список противоречий.
Все это происходило в Хьюстоне. Жара и влажность там стояли такие, что это напоминало сауну, и Антарктида уже превратилась в быстро ускользающий кошмарный сон.
– Но это же просто жизнь в обществе, – указал Чарльз Йорк озадаченно. – Все социальное существование – это набор противоречий.
– Нет-нет, – возразил Мишель. – Жизнь в обществе – это набор противоречивых требований. Это нормально, согласен. Но здесь мы говорим о требованиях быть двумя противоположностями одновременно. Это классические противоречия. И они уже приводят к множеству классических ответных реакций. Скрытость. Множественные личности. Нечестность. Сдерживание чувств, а затем их всплеск. Тщательное рассмотрение результатов тестов показывает, что проект неосуществим. Я рекомендовал бы начать с небольших научных станций со сменным персоналом. Как сейчас в Антарктиде.
Это вызвало бурное обсуждение и даже привело к разногласиям. Чарльз по-прежнему настаивал на постоянной колонии, и Мэри была с ним солидарна. Джорджия и Полин, сами пережившие некоторые трудности на Ванде, соглашались с Мишелем.
Чарльз зашел во временный кабинет Мишеля, качая головой. Посмотрел на него серьезно, но при этом как-то безучастно, отстраненно. Профессиональным взглядом.
– Понимаешь, Мишель, – сказал он. – Они хотят лететь. Они могут приспособиться. У многих это получилось очень хорошо – так хорошо, что никаким слепым испытанием таких не подберешь. И что они хотят лететь, это очевидно. Поэтому-то нам и нужно выбрать, кого отправить. Нам нужно дать им возможность сделать то, что они хотят. Мы не можем решать за них.
– Но это не сработает. Мы уже убедились.
– Я не убедился. И они тоже. То, что ты видел, тебя не удовлетворило, но они имеют право на попытку. Там может произойти что угодно, Мишель. Что угодно. А этот мир не настолько ладно скроен, чтобы мы ставили запреты людям, желающим создать что-то новое. Это будет хорошо для всех. – Он резко встал, чтобы выйти из кабинета. – Подумай над этим.
Мишель подумал. Чарльз был разумным, мудрым человеком. В его словах была доля правды. И вдруг Мишеля охватил трепет, холодный, как катабатический ветер в долине Райта: вдруг он из собственного страха ставил препятствия чему-то великому.
Он изменил рекомендацию, подробно изложив свои доводы. Объяснил, почему голосует за продолжение проекта, и предоставил комитету список сотни лучших кандидатов. Джорджия и Полин, однако, по-прежнему не поддерживали проект. Затем, чтобы прийти к окончательному заключению, собралась уполномоченная группа. Ближе к концу процесса Мишель даже оказался в собственном кабинете с президентом США, который сидел рядом и рассказывал, что, вероятно, в первый раз Мишель был прав, ведь первые впечатления обычно правильны, тогда как от домысливаний толку мало. Мишель мог на это лишь кивнуть. Позднее он сидел уже на совещании, где присутствовали президенты США и России и ставки были совсем уже высоки. Мишель четко видел, что оба лидера хотели основать базу на Марсе ради собственных политических целей. Но также они хотели, чтобы та оказалась успешной, чтобы проект себя оправдал. В этом отношении идея отправить сотню постоянных колонистов явно несла более высокие риски, чем при остальных вариантах, что у них имелись. Ни один из президентов не хотел так рисковать. Сменный персонал сам по себе представлял меньший интерес, но если сделать его достаточно многочисленным, а базу достаточно крупной, то политический эффект (на общественность) получился бы почти таким же. Наука тоже бы не пострадала, и все прошло бы гораздо безопаснее, как в радиологическом, так и в психологическом плане.
И они отменили проект.
II. В каньоне окаменелостей
За два часа до заката Роджер Клейборн, гид, объявил, что пора разбить лагерь, и восемь членов экспедиции спустились со склонов или поднялись из боковых каньонов, которые исследовали в тот день, пока группа медленно продвигалась на запад в сторону горы Олимп. Айлин Мандей, весь день проходившая с выключенным радио (гиду все равно удавалось до нее докричаться), настроилась на общую частоту и услышала голоса товарищей. Доктор Мицуму и Шерил Мартинес целый день тянули по узкому дну каньона тележку с оборудованием, а миссис Мицуму усмехалась их шумным жалобам. Джон Ноблтон, как обычно, предлагал разбить лагерь дальше по выточенному водой арройо, по которому они шли. Айлин не знала точно, какая из запыленных фигур принадлежала ему, но думала, что это была та, которая с воодушевлением шла вприпрыжку, легко, как антилопа, и с каждым шагом взметала с поверхности кучку песка. Зато гида, шедшего с другой стороны, не узнать было невозможно: он выглядел высоким даже на фоне скал, что тянулись по краю глубокого каньона. Когда другие замечали, как далеко он шел, у них вырывался стон. Тележка с оборудованием при марсианской гравитации весила меньше семисот килограммов, но тем не менее требовалось несколько человек, чтобы поднять ее на точку, куда их вел Клейборн.
– Роджер, почему бы нам просто не спуститься немного по дороге, по которой мы сюда пришли, и не разбить лагерь тут за углом? – спросил Джон.
– Ну, это, конечно, можно бы, – отозвался Роджер так тихо, что его голос был еле слышен по радио, – только я еще не научил вас спать под углом сорок пять градусов.
Миссис Мицуму хихикнула. Айлин раздраженно цокнула, надеясь, что Роджер правильно поймет, кто издал звук. Это его замечание отражало все, что ей не нравилось в гиде, – оно было одновременно малословным и насмешливым, а именно это сочетание Айлин уже не могла считать просто необычным, как раньше. Да и широкая глумливая ухмылка ничуть не помогала.
– Я нашел там хорошую ровную местность, – не унимался Джон.
– Видел. Но я полагаю, наш шатер на ней не поместится.
Айлин принялась помогать тем, кто тащил тележку вверх по склону.
– Я полагаю… – передразнила она, как только стала задыхаться и потеть.
– Видишь? – послышался в ухе голос Роджера. – Мисс Мандей со мной согласна.
Она цокнула снова, еще более раздраженно, но ей было все равно, как это выглядело со стороны. До сих пор она считала экспедицию неудачной, а гида – весомым фактором этой неудачи, даже несмотря на то, что в первые три дня из четырех он вел себя так тихо, что она едва его замечала. Но затем его острый язык, наконец, привлек ее внимание.
Она поскользнулась на какой-то грязи и упала на колени, затем поднялась и пошатнулась снова, но соприкосновение с поверхностью напомнило ей, что в ее неприятности был отчасти виновен сам Марс. Ей не хотелось этого признавать так же уверенно, как то, что ей не нравился Клейборн, но это была правда, и это ее беспокоило. Ведь она столько лет изучала планету в Марсианском университете в Берроузе – сначала литературу (она когда-то хвасталась, что прочитала все произведения о Марсе, что когда-либо были написаны), затем ареологию и, в частности, сейсмику. Но бо́льшую часть своих двадцати четырех лет она провела в самом Берроузе, а крупный город был совсем не похож на каньоны. Ее прошлый опыт пребывания вдали от цивилизации ограничивался посещениями великолепного участка борозды Гефеста под названием каньон Лазули, где ледяная вода наполняла ручьи и родники, водопады и озера, а на влажных красных пляжах пробивалась жесткая трава. Конечно, она знала, что девственная марсианская природа была вовсе не такой, как в Лазули, но где-то в подсознании, когда видела рекламу тура: «Гарантируется посещение мест, где не ступала нога человека», у нее возникал образ чего-то похожего на этот зеленый мир. Подумав об этом, она мысленно назвала себя дурой. Склон, по которому они с таким трудом поднимались, представлял собой отличный пример такого нехоженого места, каких они немало повидали за последние дни. Он был покрыт грязью всех возможных консистенций и оттенков, отчего напоминал огромный, медленно тающий слоеный пирог, приготовленный из ингредиентов, похожих на пищевую соду, серу, кирпичную муку, порошок карри, угольный шлак и квасцовую муку. И это был лишь один пирог из тысячи, которые простирались вперед так далеко, насколько хватало зрения. Огромные кучи грязи.
Почти добравшись до места, где Роджер хотел разбить лагерь, они остановились отдохнуть. В левый глаз Айлин затек ручеек пота.
– Давайте затащим сюда тележку, – сказал Роджер, спускаясь, чтобы помочь.
Остальные смотрели на него с возмущением, но не двигались с места. Доктор наклонился, чтобы поправить ботинок, а поскольку держал тележку в тот момент именно он, все оказались застигнуты врасплох, когда камешек под задним колесом сдвинулся и тележка резко вырвалась из его хватки и покатилась вниз по склону…
Роджер устремился головой вперед в гущу взметнувшейся пыли и, подобрав камень размером с буханку хлеба, сумел подпереть колесо. Тележка продвинулась еще на пару метров и остановилась. Все стояли неподвижно, глядя на лежащего на животе гида. Айлин была удивлена не меньше остальных – она еще никогда не видела, чтобы Роджер двигался так быстро. Поднялся он уже со своей обычной неторопливостью и принялся смахивать пыль с забрала шлема.
– Лучше ее подпереть, пока не укатилась, – пробормотал он, улыбаясь сам себе.
Они вытащили тележку на ровную площадку. Но Айлин задумалась: если бы тележка прокатилась до самого дна каньона, она вполне могла разбиться. А если бы повреждение оказалось достаточно серьезным, это могло их всех погубить. Так что она поджала губы и взобралась на площадку.
Роджер и Иван Коралтон вытащили из тележки основание шатра. Натянули его над кольями, выровняв и приподняв над мерзлой поверхностью. Иван и Кевин Отталини достали изогнутые стойки купола, после чего втроем, вместе с Джоном, осторожно установили их и, вытащив прозрачный материал шатра из основания, натянули его на каркас. Когда они закончили, остальные стояли с несколько угрюмым видом – ведь в тот день группа прошагала порядка двадцати километров, – а затем вошли через не слишком надежный шлюз, притянув тележку за собой. Роджер покрутил задвижки на ее боковой стороне, и в защитную оболочку резко хлынул сжатый воздух. Прежде чем она наполнилась, доктор Мицуму с женой отсоединили от тележки ванну и туалет. Роджер включил обогреватели и через несколько минут, поглядев на приборы, кивнул.
– Снова дома, снова дома, – как всегда, проговорил он.
Внутренняя поверхность прозрачного шатра покрылась конденсатом. Айлин отстегнула и сняла шлем.
– Слишком жарко.
Но ее никто не услышал. Она прошагала к тележке и выключила обогреватель, уловив уголком глаза насмешливую ухмылку Роджера, – воздух в шатрах ей всегда казался чересчур горячим. Точный как часы доктор Мицуму, едва сняв костюм, сразу же метнулся в туалет. И когда все расстегнули костюмы и вылили собравшуюся влагу в фильтр очистки воды, имевшийся в тележке, воздух наполнился запахом пота и мочи. Доран Старк, как всегда, отправился в ванну первым – Айлин удивилась, как быстро в группе установились собственные обычаи, – и, стоя по щиколотку в воде, обтирался губкой и пел «Я встретил ее в ресторане “Фобос”». Вылив влагу из своего костюма в фильтр, Айлин заметила, что и сама улыбается тому, что всей этой домашней рутиной они занимались в прозрачном пузыре посреди бескрайней ржавой пустоши.
В ванную она зашла предпоследней, перед Роджером. Вокруг крошечной емкости на уровне плеч была занавеска, но поскольку ею никто не пользовался, Айлин тоже не стала – хоть ей и было слегка неуютно оттого, что на нее все это время украдкой поглядывали Джон и доктор. Но она все равно тщательно обтиралась губкой, и ее чистую влажную кожу приятно обдавал непрерывно движущийся воздух. К тому же так ей было открыто любопытное зрелище: скопление румяных голых тел на одном из уступов гряды, тянущейся на тысячи метров кверху и книзу от них, а за ними – каньоны за каньонами, бороздящие наклонную местность, выпирающая на западе гора Олимп, будто стремясь проткнуть купол неба, и кроваво-красное солнце, готовящееся сесть позади нее. Айлин поняла, что Роджер не знал, как выбрать место, где разбить лагерь. Вид был в самом деле возвышенный, как и во всех предыдущих местах, где они останавливались. Возвышенный – заставляющий твои чувства кричать об опасности, когда ты знаешь, что тебе ничего не грозит. Это более-менее соответствовало определению Берка[9]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Пирамидальные полярные палатки, созданные на основе используемых в британской антарктической экспедиции, возглавляемой Робертом Скоттом. –Здесь и далее примечания переводчика.
2
В Южном полушарии мартовское равноденствие считается осенним, а сентябрьское – весенним.
3
Никколо Макиавелли (1469–1527) – итальянский мыслитель и философ. Сторонник идеи сильного государства, для достижения целей которого допускал использование любых средств, независимо от целесообразности их применения с точки зрения морали.
4
Сказочный персонаж, встречавшийся в цикле Артуровских легенд и ряде других произведений.
5
Прибор для измерения скорости ветра.
6
Крупнейшее поселение в Антарктиде.
7
Гален (130–210) – римский врач, хирург и философ греческого происхождения.
8
Из песни группы The Doors «The Spy» («Шпион»).
9
Эдмунд Берк (1729–1797) – ирландский политический деятель, писатель и философ.