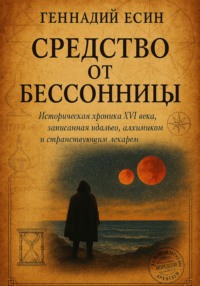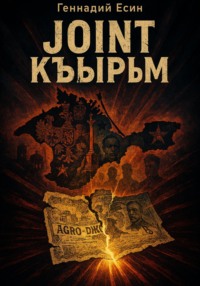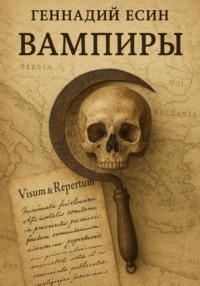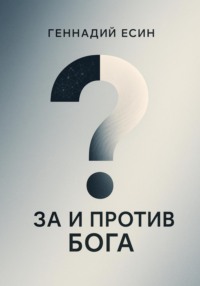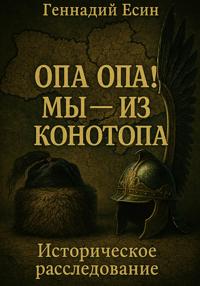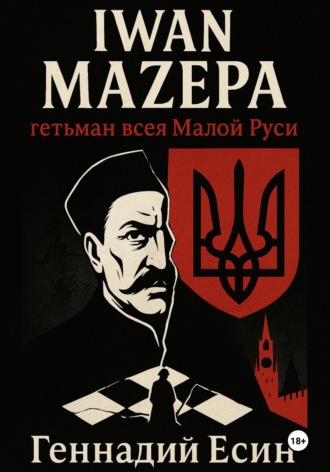
Полная версия
Iwan Mazepa – гетьман всея Малой Руси

Геннадий Есин
Iwan Mazepa – гетьман всея Малой Руси
Мы живём не среди фактов, а среди их интерпретаций, среди того, что решают озвучить, кому и зачем.
Историческая истина – это не то, что лежит в архиве, а то, что оттуда извлекают и озвучивают. Всё остальное – мёртвая тишина, покрытая пылью. Данные архива – это пространство не знания, а рисков, не клад для историка, а минное поле, где каждый документ – это шаг, который может обернуться либо спасением, либо взрывом. Поэтому молчание архива – это не отсутствие истины, это отсутствие воли её озвучить. А когда такая воля появляется – начинается борьба опять же не за правду, а за право её произнести.
Вместо предисловия
Если вы ищете гладкий, причёсанный и политкорректный текст с одной лишь биографией гетмана Мазепы – дальше не читайте. Это эссе не для вас.
Я не претендую на обладание истиной в последней инстанции и предлагаю вам не академическую монографию, а злое и субъективное историко-публицистическое эссе о предательстве и двойных стандартах.
Мы будем говорить о Мазепе – о том мире, что его выпестовал, а затем диалектически отразился сейчас в нашем времени. Вам предлагается путешествие по изломам истории, где прошлое поможет понять настоящее.
Этот текст – не о героях или предателях. Он – зеркало, в котором Мазепа, его враги, да и мы сами отразимся в неискажённом свете Истории.
По крайней мере, автор на это надеется.
Уважая мнение каждого – недоброжелателей и несогласных попрошу опровергать мою точку зрения с холодной головой – спокойно, без истерического визга и брызгания слюной. А контрдоводы подтверждать цитатами и фактами, взятыми из исторических материалов, а не копипастами чужих пересказов.
P.S. В настоящем тексте я сознательно использую слова «москали» и «московский» вместо более позднего и обобщающего «русский».
Это обусловлено историческим контекстом начала XVIII века, когда в Малороссии подобные термины отражали не только географическую принадлежность к Московскому царству, но и политическую, культурную дистанцию между казацкой автономией и централизованной властью.
Употребление этих слов соответствует лексике того времени и передаёт их восприятие как внешней силы, чуждой местной традиции.
С реальным уважением ко всем вам, независимо от ваших точек зрения,
Геннадий Есин
Уроки верховой езды
Иван Степанович Мазепа родился в: 1629, 1633, 1639, 1640, 1644… Год рождения точно неизвестен, однозначных данных о происхождении нет.
Одни историки называют Мазепу «польским шляхтичем» (Ян Стефан-Адам Мазепа-Колединский), другие, в том числе и его современник, знаменитый церковный деятель Феофан Прокопович, утверждают, что Мазепа происходил из шляхты Правобережья и родился около 1640 года в Мазепинцах (ныне Белоцерковский район Киевской области).
Вопрос о вероисповедании семьи (униатское, католическое, православное) достоверно не выяснен. И, хотя имя отца нашего героя, Стефан-Адам, подобрано со вкусом, но вряд ли из православных святцев. Да и сам будущий гетман до определённого времени легко отзывался на имя «Ян».
Мазепа младший начал обучение в Киево-Могилянском коллегиуме, доучивался тоже в коллегиуме, но уже в Иезуитском в Варшаве. По протекции отца был принят ко двору короля Яна-Казимира «покоевым» шляхтичем. Чем очаровал монарха юный Мазепа неведомо, но выборный король Жечи Посполитой послал Мазепу-младшего за границу.
Юный Ян посетил Германию, Италию, Францию, а в Нидерландах даже изучал артиллерийское дело.
По возвращению его назначили черниговским подчашим, но придворная карьера полу-тёзки польского короля прервалась и довольно неожиданно.
Вот как это объясняет историк Николай Костомаров: «Рядом с имением его матери жил некто пан Фальбовский, человек пожилых лет. Познакомившись в доме этого господина, Мазепа завел связь с его женою.
Один раз, выехавши из дома, пан Фальбовский увидел за собою едущего своего служителя, остановил его и узнал, что служитель везет от своей госпожи к Мазепе письмо, в котором Фальбовская извещала Мазепу, что мужа нет дома, и приглашала приехать. Фальбовский велел служителю ехать с этим письмом к Мазепе.
Сам Фальбовский расположился тут же ожидать возвращения слуги. Через несколько времени возвратившийся слуга отдал господину ответ, писанный Мазепою к Фальбовской, что едет к ней тотчас.
Фальбовский дождался Мазепы. Когда Мазепа поравнялся с Фальбовским, последний бросился к Мазепе, остановил его верховую лошадь и показал ему ответ к своей жене.
«Я в первый раз еду», – сказал Мазепа. «Много ли раз, – спросил Фальбовский у своего слуги, – был этот пан без меня?» Слуга отвечал: «Сколько у меня волос на голове».
Тогда Фальбовский приказал раздеть Мазепу донага и в таком виде привязал на его же лошади лицом к хвосту, потом велел дать лошади несколько ударов кнутом и несколько раз выстрелить у нее над ушами.
Лошадь понеслась во всю прыть домой через кустарники, и ветви сильно хлестали Мазепу по обнаженной спине. Собственная прислуга насилу признала своего исцарапанного и окровавленного господина, когда лошадь донеслась во двор его матери».
Так, благодаря ревнивому мужу и обезумевшей от страха лошади, блестяще начинавшаяся карьера Яна Мазепы при польском дворе завершилась довольно быстро и бесславно. Но именно это падение и открыло для него совершенно иной путь.
Пасьянсы на крови
Народная молва, не обременённая знаниями историка Костомарова, пошла дальше. Так и оставшаяся неустановленной лошадь, вынесла Мазепу не на собственное подворье, а на Правый берег Днепра, прямо в объятия гетмана Дорошенко. Документальных подтверждений легенде, я не нашел, но в те времена имели место дела и куда менее вероятные.
«Один поляк – пан; два – Сейм; три – драка».
Жечь Посполита реально была самым… Нет, понятие «демократическое» здесь не подходит! Самым неуправляемым государством. Не верите? Тогда послушайте московского дипломата князя Долгорукова, долгое время выполнявшего в Варшаве функции то ли посла, то ли шпиона:
«Бог знает, как может стоять Польская Республика. Бог знает, какие безрассудные люди. Как бестии без ума ходят, не ведая, что над ними будет».
Именно из такого кипящего котла политических страстей и противоречий, судьба выбросила будущего гетмана на территорию Малороссии. «Из огня да в полымя»…
Украинские историки тот временной период назвали коротко, но ёмко и честно: «Руина». С 1663 года если на правом берегу Днепра правил один гетман, то на Левом – другой, если первый ориентировался на Польшу, то второй обязательно – на Россию. Исключением стал, разве что гетман Дорошенко, который взял, да и перешёл со всем своим правобережьем под протекторат Турции.
Это ему не помогло, но с тех самых пор падишахи Османской Империи стали принимать участие в малороссийских пасьянсах, назначая украинских гетманов из беглых казаков и молдавских господарей. Хотя их реальная власть не распространялась дальше речки Днестр.
Перца подбавляла и своенравная Сечь.
Анархиствующие казаки-запорожцы были «по умолчанию» против любой власти, им принципиально было всё равно кого резать, лишь бы грабить, и здесь они часто находили поддержку у своих заклятых врагов-друзей – крымских татар. Правда, в глубине души «степные лыцари» ляхов ненавидели лютее (может оттого, что с московитами крестились на одну сторону?!).
Если совсем коротко, то «Руина» – это период, когда украинцы катували украинцев, то с помощью москалей, то поляков, то татар.
Однако вернёмся к нашему герою…
«Дорошенко отправил Мазепу к султану просить помощи у Турции, но кошевой атаман Иван Сирко поймал Мазепу на дороге, отобрал у него грамоты Дорошенка и самого посланца отослал в Москву. Мазепа своим показанием на допросе сумел понравиться боярину Матвееву…, был допущен к государю Алексею Михайловичу и потом отпущен из Москвы».
Дорога, на которой запорожский атаман поймал Мазепу, вела в татарский Крым, но любопытно иное: Иван Степанович, ротмистр надворной хоругви, вёз не только богатые подарки от правобережного гетмана, но и «пятнадцать пленных Козаков, отправленных Дорошенком в дар Хану».
Таков был первый урок, преподанный Мазепе гетманом Дорошенко: жизнь простых людей ничто в политических играх. И этот урок, как покажет будущее, Мазепа усвоил блестяще.
Коломакский сговор
После пленения Сирком и неожиданного помилования в Москве, Мазепа обосновался на Левом Берегу у гетмана Самойловича. Начав там карьеру практически с ноля, Мазепа «вырос» до Генерального Есаула и в благодарность принял активное участие в заговоре против своего начальника и благодетеля, а потом…
Впрочем:
«Всему своё время, и время всякой вещи под небом».
Не этично спорить с тем, кто ушёл в мир иной и не может ответить, но «приглашённый» профессор Гарвардского университета Александр Оглоблин отрицает подпись Мазепы в доносе на гетмана Самойловича. Безусловно им там, за океаном виднее! Но это ещё не всё! Коллаборационист и бывший фашистский бургомистр города Киева Оглоблин сделал важное открытие, которым поспешил поделиться со всем миром, естественно на украинском языке:
«… донос поданий «в таборъ над ръчкою Коломаком», тоді як справді це було ще на р. Кильчені» (донос, «поданный в табоер над речкой Коломаком», тогда как на самом деле это было ещё на р. Кильчене).
Во как! Триста лет все ошибались, а историк из века XX взял, да и открыл глаза мировой исторической общественности
Только свой источник информации украинский эмигрант так и не рассекретил.
В отличие от Бантыш-Каменского – историка из века XIX, который не только полностью привёл текст «закладной» с местом и датой, но и прилежно указал, откуда им сей документ был взят: «Из коллежского архива».
Скажете: «Бантыш – «лицо» заинтересованное». Ладно. Тогда вот вам исследователь не русской национальности из предыдущего XVIII столетия. Александр Ригельман привёл полный текст «Челобитной Генеральных Старшин и всего войска Малороссийскаго: об измене и о многом неистовстве Гетмана Ивана Самойловича», рассекретив и место: «В табуре над речкою Коломаком, в лето 1687, июля 7 дня…», и фамилии заговорщиков, в числе коих: «… Иван Мазепа, есаул войска Их Царского Пресветлого Величества из Генеральных…».
С местом и с действующими лицами похоже разобрались, теперь поищем ответ на извечный вопрос: «Кто виноват?»
Цена булавы
Всё тот же Бантыш-Каменский главным резоном смещения Самойловича назвал провал первого крымского похода под руководством боярина Голицына.
Справедливости ради отметим, Самойлович был одним из немногих, но весьма последовательных противников сего анабазиса.
Впоследствии «дело на Коломаке» (перевыборы гетмана – Г. Е.) выставили особенной заслугой новгородскому князю (В. В. Голицыну – Г. Е.), но тогда, после провала похода, ситуация для Василь Василича складывалась очень и очень непросто! Слишком много было недовольных – все только и ждали, когда же оступится фаворит царевны Софьи, оттого найти формального виноватца и для боярина Голицына, и для самой царевны было делом, если не чести, то семейного спокойствия – точно. Впрочем, судите сами…
Грозовой весенний месяц май. Объединённое русско-казацкое войско численностью более ста пятидесяти тысяч пищалей и сабель двинулось на юго-запад от реки Самары. Загорелась степь…
По одной из версий это сделали татарские лазутчики, по другой – ударившая в землю молния. Армия, углубившись в выжженную пустыню, остановилась…
Пошёл дождь, появилась вода, но чем кормить лошадей? Войска покатились назад, неся не боевые потери; война была проиграна, не успев даже начаться.
«Тогда, честолюбивый сей человек, для сокрытия такого позора, еще более запятнал себя в Истории. По совету лукаваго Мазепы сложил он всю вину на Самойловича, и коварный Асаул, преклонил 7 Июля некоторых Старшин послать тайным образом на несчастнаго Гетмана следующий донос».
«Честолюбивый сей человек», и «он» – это Василий Васильевич Голицын в одном лице.
Отметим, сперва казацкий донос передали князю, и только потом Голицын переправил его в Москву. Отсюда следует вывод: «Имел место не просто заговор, а сговор Голицына и Мазепы, а придумал эту многоплановую акцию – герой нашего эссе».
Справедливости ради озвучим и точку зрения историка Н. И. Костомарова:
«Мы не знаем степени участия Мазепы в интриге, которая велась против гетмана Самойловича … и потому не вправе произносить приговора по этому вопросу».
Теперь по сути обвинений, выдвинутых против Самойловича. Современному политику за такой список «прегрешений», а их – без малого двадцать шесть – в любой цивилизованной стране не то, что импичмент, а даже депутатскую неприкосновенность не снимут. Ещё и жертвой «черного пиара» выставят. Ерунду всякую до кучи свалили и количеством взяли. Казнокрадство, злоупотребление служебным положением, взятки за получение должностей…
Но если серьёзно, попадаются действительно абсурдные обвинения – и в организации поджога степной травы и, «когда ему в поход болезным очам солнечной зной докучал, говорил: се неразсудная война Московская…». Ну, не было тогда солнцезащитных очков, вот и раздражался немолодой гетман!
Отступившее войско переправилось через речку Коломак и 21 июля раскинуло стан на левом берегу. Сюда и «пригнал» гонец из Москвы с повелением:
«Великие Государи … Ивану Самойлову быть гетманом не указали…».
В казачий лагерь, окружённый на всякий случай русскими «выборными полками и стрельцами» (уж очень непредсказуемы были московские союзники, оттого их и блокировал «спецназ»), приехал светлейший князь Голицын.
«Советовано было о пожитках оставленного гетмана, при сём боярин и воевода объявил, что хотя всё его имение (Самойловича – Г. Е.) по силе государственных уставов, на государя отписать надлежало, однако ж он будет стараться, чтоб половина из того козацкому войску отдана была… предложил он им генерального есаула Ивана Степановича Мазепу».
Неслыханная щедрость, особенно за чужой счет. Не мудрено, что казачий круг тут же порешил: «Любо!», и выкрикнули «щиры лыцари стэпу» гэтьманом обоих сторон Днепра и Войска Запорожского…
А и в самом деле, почему бы и нет? Не генерального же обозного Борковского – известнейшего скрягу и чуть ли не упыря! Тем паче, «большого полка дворовый воевода, царственные большие печати и государственных великих посольских дел оберегатель» предложил за правильный, «по понятиям» сделанный выбор, половину имущества низложенного гетмана.
Насчёт «половины» светлейший слово сдержал…
Через двести пятьдесят лет Вождь и Отец Народов 1/6 части суши Иосиф Виссарионович Сталин тоже полагал, что «кадры решают всё». Но к нашей истории эта не имеет никакого отношения!
«Гетманом был назначен Мазепа, тип малоросса, воспитанного польским игом и татарским соседством… О Голицыне говорили, что он не забыл себя при конфискации имущества гетмана. Документально подтверждается, что он позволил новому гетману подарить ему 10 000 рублей».
Призываю вместе восхититься изяществом оборота: «… позволил … подарить…»!
И, что? Самойлович был невинно оболган? Так, да не совсем!
«Напоследок открылось, что он (Самойлович – Г. Е.) с татарами имел тайное согласие и заключил с ними союз, после которого намерен был освободить свой народ от российского подданства и учинить себя самодержавным государём; а татары также Порте больше повиноваться не хотели … в чём оба народа друг другу, при нужном случае, помогать обязались».
Левый берег тяготился московским подданством, Крым – стамбульским… В этом новом для него мире тайных союзов и непрерывных интриг гетману Мазепе предстояло доказывать свою верность Москве. И он будет это усердно делать. До определённой поры…
Верой и правдой
Получив булаву из рук Голицына, Мазепа понимал, что верность Москве – залог его выживания. И он принимает активное участие во втором, столь же провальном, крымском походе московского боярина. А в 1689 году во время пребывания в Москве гетман умудряется понравиться молодому Петру…
По странному стечению обстоятельств, именно с этого года «на верх» начинают поступать доносы, в которых муссируется одно и то же:
«Мазепа – лях, он дружит с поляками и желает завести на Украине польские порядки. Мазепа намерен изменить московскому царю и перейти на сторону его врагов».
Парадоксально, но каждый новый донос работал не против Мазепы, а на него. Доносчикам упорно не верили, их пытали и ссылали, а молодой царь Пётр всё более уверялся в несокрушимой преданности своего гетмана. А после…
Много чего было после: помощь в постройке русских пограничных городков; казацкое восстание Кондратия Булавина; моровая язва; отражение походов самозваного гетмана Петрика; участие в двух кампаниях против турецкого Азова…
Прогибаться под и юлить между… Жечь Посполита, Московия и Османская империя никак не могли провести новые границы, норовя проложить их именно через Украйну.
Сосед, Крымский Хан, то – непредсказуемый друг, то – заклятый враг. Ограниченная и жадная казачья старшина. А народ…
Впрочем, народ, как в своё время верно подметил Александр Сергеевич Пушкин: «Безмолвствовал». А в спину уже давно и шумно дышали другие – такие же беспринципные, но более молодые и более бедные, и чтобы удержать шаткую власть, гетману надо было любой ценой сохранить доверие, набирающего силу московского царя. И служил гетман верой и правдой.
«В наступившем 1699 году Мазепа имел счастие видеться в Белгороде с государём и получил от него учреждённую вновь Кавалерию Святого Апостола Андрея Первозванного».
Пётр Алексеевич лично наградил Ивана Степановича самым высшим орденом Московского царства, а затем и Российской империи, под номером два. Российский самодержец оказался в списках награждённых только шестым.
Девиз ордена гласил: «За веру и верность»…
А в это время на правом берегу…
После падения гетмана Дорошенко, в результате перманентных опустошений производимых поляками, русскими, татарами, турками и самими казаками, население Правого берега сократилось и преизрядно.
С избранием королём Яна Собеского поляки решили возродить казачество, с той же целью, с какой оно первоначально и возникло: для защиты пределов Жечи Посполитой. Король принялся рассылать офицеров с поручением набирать всякого рода сброд и организовывать из них казаков. В 1683 году назначили им и гетмана – шляхтича Куницкого, которого козаки считали самозванцем.
Правобережных реестровых казаков насчитывалось уже около восьми тысяч, но… «Недолго музыка играла».
Менее чем через год сумасбродная вольница казнила назначенного предводителя и выбрала себе другого с многозначительной кличкой – «Могила». Однако к этому времени большая часть правобережных «шибай-голов» уже отъехала на противоположный левый берег, и у Могилы оставалось не более двух тысяч сабель.
Однако польский король не унимался и в 1685 году убедил сейм проголосовать закон о восстановлении казацкого сословия. Не успели паны принять сей исторический документ, как в Полесье и на Волыни начались форменные беспорядки. Одни шляхтичи набирали людей в казаки, другие жаловались, что новые казаки производят буйства и разорения панских маетков…
И пока гетман Мазепа на Левобережье демонстрируя веру и верность, пожинал плоды относительной стабильности и царских милостей, на другом берегу Днепра Руина и не думала заканчиваться. Она только сменила декорации и вывела на авансцену новых действующих лиц.
В начале XVIII века очередной самопровозглашённый правобережный гетман Самусь объявил крестьянам вечную свободу от панов и призвал селян к оружию. Началась новая отчаянная война подданных против господ. Шляхта составила ополчение и потерпела поражение. 16 октября 1702 года казаки овладели Бердичевым и устроили там очередную бойню…
Горели помещичьи усадьбы и отдельные дома, мещане и крестьяне сбивались в шайки, называя себя казаками, а своих атаманов – полковниками. Восставшие под командованием гетмана Самуся взяли крепость Немиров, и как это было у них принято, вырезали всех шляхтичей и евреев.
Польша, погрязшая в войне со Швецией, оказалась настолько слабой, что коронный гетман Иероним Любомирский вместо того, чтобы заняться своим прямым делом – защищать вверенное ему отечество, посоветовал создать комиссию для разбора казацких жалоб! Предложение отклонили, зато порешили обратиться за помощью к московскому государю. Царь Пётр пообещал навести порядок и послал в Малороссию… увещевательные грамоты.
Сообразив наконец, что «спасение утопающих – дело рук самих утопающих», поляки назначили начальником ополчения польного гетмана Синявского. Не мудрствуя лукаво, тот собрал дворовые отряды разных панов, присоединил их к регулярному войску, которое было весьма немногочисленно и выступил на бунтовщиков. К этому времени большая часть восставших казаков разбрелась по домам зимовать и обратно на войну не поспешала, а разрозненные отряды селян поляки рассеяли без особого труда.
Гетман Самусь был разбит в Немирове, потерял эту крепость и бежал. Полковник Абазин, упорно отбивался в Ладыжине, но был взят в плен и посажен на кол…
Отметим: в те времена процесс установления вины не отягощал ни ту, ни другую сторону. Холоп задержан с оружием… «На палю его!..» (паля (укр. польск.) – кол, однокоренные слова: «пали-сад-ник», «пал-ец», «пал-ка»).
Обоюдная жестокость привела к тому, что Правый берег снова опустел. Кто бежал к туркам – в Молдову, кто к москалям – на Левый берег. Но поляков это не смутило. Более того, они решили провести суд над оставшимися непокорными подданными.
Виновных насчитали аж двенадцать тысяч, а подозреваемых – в шесть раз больше.
Гениальный выход нашёл Иосиф Потоцкий, предложивший, чтобы не утруждать суды процессуальными тонкостями, каждому подозреваемому отрезать ухо. Для ускорения процесса «шановнэ паньство» бросилось собственноручно резать уши хлопам, однако нашлись и такие господа, что защищали своих крестьян, даже извиняли их, объясняя увлечением в мятеж обманом.
Народонаселение в южнорусском крае было невелико, и толковые землевладельцы дорожили рабочею силой.
Умные сами всё поймут, а дураки нам не нужны
Очередной бунт был подавлен и пока восстанавливая порядок, одни польские паны отрезали своим и чужим крестьянам уши, а другие пытались их защищать, начало разгораться пламя нового восстания. Бунтарский дух подхватил правобережный полковник Семён Гурко, по кличке «Палий» из Белой Церкви.
Нуждаясь в помощи польского короля Августа II, царь Пётр потребовал от казаков сдать полякам Белую Церкви, но Палий неожиданно заупрямился. Тогда гетман Мазепа, по царскому повелению, перешёл Днепр и вызвал к себе мятежных атаманов.
Первым прибыл наказной гетман Самусь и безоговорочно сдал гетманские клейноды. Мазепа сместился в Бердичев и пригласил туда мятежного полковника Гурко. В честь Палия был устроен банкет, по завершении которого, в «усмерть» пьяного гостя отправили в Батурин, где сдали его русским властям с больной головой, похмельным синдромом и в кандалах. По Именному Высочайшему Повелению непонятливого полковника отправили доживать в Енисейск.
Так, хитростью и обманом, Мазепа погасил последний очаг сопротивления на Правом берегу. Для царя Петра гетман стал незаменимым инструментом и гарантом спокойствия на малороссийских рубежах. Казалось бы, Мазепа достиг всего, что хотел.
Но впереди замаячила тень большой войны, которая вскорости заставит левобережного гетмана сделать новый, самый главный выбор в своей жизни.
Великая северная война
1700 год принёс в Европу большую войну. Датский король Фредерик IV стремился вернуть захваченную Швецией южную часть Скандинавского полуострова. Курфюрст саксонский и по совместительству король Польский, претендовал на оккупированную шведами Лифляндию. Россия желала вернуть устье Невы. Образовалась мощная антишведская коалиция, но для союзников война началась крайне неудачно.
Высадка Карла XII под Копенгагеном заставила капитулировать датчан. Под Нарвой тяжелое поражение потерпела российская армия. Август II снял осаду Риги и отступил вглубь Польши.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.