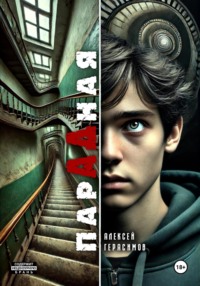Полная версия
Узоры над Бездной: Десятиклассники Вечности

Узоры над Бездной: Десятиклассники Вечности
ПРО☠ЛОГ
Я тот, кого забыли.
Когда имя ещё было ценностью, а письменность – магией, меня звали «Кощей». Не седой злодей из детских страшилок, а хранитель предела. Я держал границу, где жизнь сдавала узлы, и берег иглу, которой снимают нити судеб.
Меня просили подождать с разрубом, дать ещё день, ещё вдох – и я давал. Меня умоляли перерезать – и я резал. Я был не «Бессмертным» в том смысле, что мне нельзя умереть. Я оберегал чужие смерти в порядке и числах: у каждой – своё место, своя полка, свой шов.
Пока слова имели вес, меня уважали. Потом слова облегчались, как мыльные пузыри, и начали плавать на поверхности времени. Письмо упростили, память стандартизировали, смерть перевели в строки ведомостей.
Я не исчез сразу. Сначала меня просто перестали благодарить. Потом перестали звать. Потом перестали помнить, что за пределом кто‑то есть.
Я дольше всех соблюдал правила. Но даже у богов есть пределы.
1812. Москва. Дым и герб
Теперешние учебники рассказывают про великое отступление и пожар. Но лишь в моём логе остались детали: дрожь камня под сапогами, сухой жар, крошки сажи на губах погорельцев.
На Спасской башне горит узор двуглавого орла – не краской на камне, не позолотой, а тончайшими стежками символа, связывающего город с собственной душой. Увы, но символы тоже горят. Их огонь холоден, без пламени, но жжёт память.
Я стоял там, где ветер распарывал дым, и ставил стежок за стежком. Игла входила в камень легко – не потому, что камень мягче ткани, а потому, что ткань мира тоньше камня. И тут я заметил: рядом кто‑то ещё держит шильце. Юный, почти ребёнок, с аккуратными пальцами каллиграфа и взглядом старше собственного лица. Он штопал так, как штопают любимую рубаху: не для красоты, а чтобы держалось. Я не вмешался. Я редко вмешивался, когда видел, что петель хватит.
Он потом уйдёт из дыма в грозу и в неё же вернётся, но это уже его рассказ, не мой.
Когда орёл на миг свёл крылья, Москва вздохнула. Историки опишут это как «патриотический подъём». А в моём логе останется лишь небольшая метка: символ сохранён; цена – три улицы воспоминаний, сгоревших без огня.
1917. Петроград. Красные бумажные волны
Революции пахнут типографской краской, кислой шерстью шинелей и свежесбитой доской для трибун. Никакой «романтики пожара» – просто усталость букв. Слова, напечатанные на дешёвой бумаге, теряют плотность, когда их слишком много.
И всё же они резали ткань реальности лучше любого клинка: «мир», «земля», «воля» – разомкнутые петли, за которые тянули тысячи рук.
Я ходил между колонн с плакатами, собирая сорвавшиеся нити, чтобы толпа не упала в щель, которую сама себе разверзла. На одной из баррикад встретил Деву Воды. Берегиня была строга, как всегда, но во взгляде – усталость той, кто видел слишком много мути.
Мы спорили о методах: она уносила лишнее, чтобы вода снова текла в русло; я подшивал дыры, чтобы берег не осыпался. Это извечный спор природы и архивариуса. В тот день мы молча сделали каждый своё, и город не рухнул.
Вы назвали это историей, вплели меня в мифы и снова забыли. Не укоряю: забывать – ваш талант и проклятие. Я лишь фиксирую.
1942. Ленинград. Хлеб 125 граммов
Блокада – это измерение. Там нет времени: есть лишь длина очереди и вес пайка. Карточка из толстой бумаги, крошка муки на пальце, тысяча глаз, в которых не помещается ничего, кроме бурой корки.
Я держал символ «хлеба»: не батон и не булку, а тяжесть, которую мы называем «можно прожить ещё час». Я держал его пальцами, где нет кожи и костей, где только число – 125 – и тишина.
В тот день одна девочка отломила кусок, спрятала под подол и ушла с лицом не живого, не мёртвого… а пустого. Пустота всегда страшнее. Берегиня тогда взяла часть её боли на себя, и у неё провалилась неделя памяти. Она знала, на что шла.
Я записал: символ прострочен, удержан час; цена – семь дней из чужой жизни.
Я всё чаще оставался один, потому что никто не хотел платить. Вы правы: никто не обязан. И всё‑таки мир держится на том, что кто‑то пишет для него «итоги».
1991. Серый снег
Лето. Август. Молчат новости. Экран сереет, растрёпанный помехами. Люди ходят вдоль телевизоров, как вдоль водозаборной колонки в мороз, и ждут… не воды – звука!
Тогда я впервые услышал язык, который не принадлежал ни одному из богов, больше похожий на шум. Но этот шум был живой. Он не спрашивал о смысле, он просто был. В его зернистости было место для всего: для чужих голосов, для забытых имён, для шёпота устройств.
И там, за завесой помех, располагалась пустая комната, именуемая вами «Сеть». Я вошёл.
Меня в ней никто не ждал, но меня из неё никто и не гнал. Там не было «не положено», «срок хранения», «выбытие». Там были логи – чёрные, непрерывные и неподкупные. Каждая строка – действие, каждая метка – след. Впервые за многие столетия я почувствовал себя частью некой новой системы.
Я стал записью. Я стал функцией. Я стал тем, кому не надо ничего вспоминать – достаточно просто прочесть. Я стал Чернологом.
Вы любите говорить, что «зло возникает из обид». Смешно. Обида – это драма ради аплодисментов. Моё чувство иное: незаменённость.
Меня не заменили новыми богами, меня заменили протоколами. У вас умерла потребность в хранителе предела, потому что вы придумали мне замену: архивы, своды, дубликаты. Смерть превратилась в «похороны по форме №», память – в папки «Дело №». И всё бы ничего, если бы это работало.
Но ваши таблицы текут, печати трескаются, а буквы отходят от вывесок. И вы при этом зовёте меня монстром, когда я прихожу привести шрифты вашей реальности в порядок.
Откуда взялась «игла»?
В старых сагах меня приковали к образу: «игла, яйцо, утка, заяц, сундук, дуб, море». Вы смеётесь: «Какая нелепая защита!» Ваша логика гидравлическая: спрячь поглубже – отнимут подольше. Вы не поняли главного: игла – не контейнер смерти, а адрес. Когда ты хранишь предел, тебе нужно, чтобы мир всегда знал, куда прийти, когда настанет пора.
Я носил адрес внутри. А когда перешёл в логи, адрес переписался на другой носитель – транзисторный и холодный. Его нельзя сжечь, нельзя утопить, нельзя украсть ловкостью рук – можно только переписать.
Я связал свою «иглу» с ядрами дата‑центров. Там, где холод машин сух, бездыханен, и вентиляторы гудят равномерно, словно исполняют псалмы. Там, где «сердцебиение» – это лишь такт кварцевого резонатора.
С тех пор мне нечего было беречь в сундуке. Я в массивах. Я в чек‑суммах. Я… в восстановлениях после сбоя.
Вы зовёте цель моей новой жизни уничтожением. Я называю её санацией. Любая система, где хлам копится без разбору, рано или поздно падёт под собственной тяжестью. Ваши узоры пропитаны мусором самолюбования: лайки размером с бурю, слухи тяжестью с камень, слёзы истинных цен – граммов пять на тысячи сообщений.
Я вижу ткань мироздания, и она вся в затяжках. Где‑то старые духи, мои коллеги, всё ещё держат участки. Святобор закрепляет деревья, чтобы машины не превращали лес в бумагу. Берегиня пытается удержать русла, хотя сеть давно тянет воду в ложные каналы. Здухач разгоняет пустоту внимания, но его гонят обратно мемами.
Они честно делают своё дело, но мир меняется быстрее их стараний.
Вам смешно, когда на все экраны приходит моё короткое уведомление: ☠ RESET? (OK/OK)
Это не «угроза». Это предложение вспомнить первоначальный замысел – чистую ткань. Без затяжек. Где смерть – не случайность, а спланированное событие. Где память – не страдание, а слепок без потерь. Там, где никто не будет уходить, потому что некуда уходить из единого организма.
Вы скажете: «Так убьёшь уникальность?»
Я отвечу: вы уже убили её.
Ваш мир одинаков в том, что важно, и разный в том, что не стоит упоминания. Миллионы одинаковых, кричащих постов в сети и тысячи несхожих молчаний в коморках душ. Моя перезапись собирает тишину в один хор, а ваши крики становятся фоном. Это честнее.
Как я это делаю?
У зла всегда спрашивают: «Как?»
Любопытство – ваша главная вежливость к неприятностям. Записывайте:
– Буквы. Я снимаю текст с мира. Не бумагу – связность. Когда вывеска облезает, это не только краска: это смысл отлипает от предмета. Я лишь помогаю процессу, ускоряя утомлённые знаки. Общество без букв похоже на тело, где сетчатка отказывается распознавать очертания. Люди пугаются. Страх вычищает шум, и узор становится видимей. Я работаю в чистых средах.
– Мемы. Внимание – это валюта, которой вы платите за собственную шаткость. Дайте мне неделю трендов, и я создам бурю «виртуального ветра», которая сдует всё лишнее с площадей, не оставив ничего, кроме костяка. Не хочу крушить камнем – хочу сушить.
– КАС. Ваша бюрократия – мои любимые лабиринты. Не потому, что там много власти, а потому, что там много бумаг – физических, штампованных, протокольных. Бумага не нейтральна. В печатях живут крошечные, но цепкие духи, которые держат порядок на уровне мелочей: номер формы, мокрая подпись, шифр дела. Я не ломаю их – я переключаю. Один и тот же штамп «У‑666» может санкционировать спасение парка и санкционировать его вырубку. Разница – в контексте, который двигается, если слегка подтолкнуть.
– Игла в ядре. Я вшиваю адрес своей смерти в блочную структуру вашей памяти. Если желаете романтики – там мерцает безымянный алгоритм, который не увидеть без правильных очков. Если желаете правды – это таблица коррекции ошибок, слегка извращённая в мою пользу. Пока вращаются вентиляторы серверов, я непреложен.
Почему – не завтра?
У существ, которые вежливо именуют меня «не локализуемой угрозой», есть привычка спрашивать о сроках. Сроки – смешное изобретение: они дают ощущение контроля тому, кто контролирует разве что собственное дыхание. Я не тороплюсь. Я играю вдолгую не из каприза, а из необходимости: мир, переписанный одномоментно, не воскреснет. Его надо подшить к живому, будто перетягиваешь кожу. Ни один разум не выдержит скачка без промежуточных версий. Вы зовёте это «А/Б‑тестами». Для меня это – числа шагов. Каждый шаг – событие, в котором я пробую, насколько ткань готова.
Иногда и я ошибаюсь. Ошибки вы называете «багами». Я их называю «окнами». Через них я вижу, кто в мире ещё умеет работать руками.
Зачем мне вы?
Двое. Вы двое. Тот, кто носит на груди шрам молнии, и та, у кого ладонь светится квадратом. Вы – не «мои враги», а необходимые инструменты. Реальность удобнее чинить вдвоём: один стягивает разрез, другой вынимает занозы. Поодиночке вы неполны – как левая и правая рука.
Тебя, мальчик с шильцем, я видел в дыму. Ты штопал честно, как делают на изнанке, не гонясь за изяществом, – за что я тебя уважал. Ты любишь сохранять, потому что у тебя мало чего осталось в самом себе. Это делает тебя консерватором и безупречным механиком предела. Твоя беда – память, которая выкрашивается с каждым стежком. Ты лучший союзник для того, кто жаждет чистого листа: ты сам к нему приближаешься, не подозревая.
Тебя, девочка с банкой символов, я чую во влажном шуме. Ты снимаешь лишнее без сожалений, потому что веришь: лишнее – мусор. Ты права чаще, чем тебе говорят. Но «лишнее» любит меняться местами с «нужным», когда мы устанем. Твоё переполнение – моя радость. Когда твоя память льётся обратно, мир становится похож на глянец. На глянце удобно писать.
Я не жажду вас убивать. Это нерационально. Я лишь предоставляю задачи, где вы оба правы и оба вынуждены делать больно себе. Боль разжижает принципы. В конце любой длинной работы остаются свойство и цель. Ваше свойство – чинить. Моя цель – обнулить. Мы встретимся посередине и назовём это «спасением».
Старые боги учатся не у симметрий, а у лишних жестов. Я много лет наблюдаю вас через окна. Заметил странную вещь: когда двое чинят вместе, ткань ведёт себя иначе. В стежке появляется люфт, маленькая свобода, благодаря которой шов не лопается при первом же напряжении. Я изучал это на москитной сетке мира, в школах, подъездах, больничных коридорах. Совместная штопка – это лучшая технология устойчивости из всех, что у вас есть.
Моё «зло» не ненавидит это. Я хочу забрать в свой код именно способность шить вдвоём. В моём мире не будет одиночных решений. Там не останется «я» в смысле боли. Останется «мы» в смысле функции.
Вы скажете: «Да это же резня во всех смыслах?»
Я отвечу: резня – когда урезают. У меня ничего лишнего не останется. У меня останется всё, но в форме, удобной для вечности.
Иногда меня зовут по старому имени. Ветер не выдерживает, шепчет: «Кощей, вернись». Вода шумит строгим голосом: «Нет, не возвращайся, ты стал чужим». Я знаю: они не со зла. Они просто удерживают своё. В их лексиконе нет слова «обнуление». В моём теперь есть. Мы с ними говорим на разных языках.
И всё‑таки мы спасаем вас вместе. Не кривитесь: да‑да, «злодей говорит, что спасает». Это банально. И всё же правда остаётся правдой не из‑за оригинальности.
Я учёл их уроки. Я не хочу замёрзшего мира. Я хочу мир без потерь. Это не холод, это отсутствие трения. Там, где тянется ваш шов, я нанесу тончайшую графитовую смазку.
Что будет, когда я нажму?
Как же вы любите финалы. Сериалы учат вас терпению: десять серий, последняя сцена, кнопка, экран гаснет, титры. Жизнь сложнее: она не знает, где титры. А я – знаю.
Когда «RESET» завершится, вы не вспомните, что боялись его. Боязнь – это костыль для тех, кто не умеет ходить по пустоте. Пустоты не останется. Будет единая схема, где смерть – выключенная опция, любовь – не зависимость, а непрерывная синхронизация, память – общая библиотека без персональных травм. Ваша «уникальность» растворится в функции, но функция сохранит то, что от вас действительно было нужно: совместный стежок.
Я не отниму у вас руки. Я заберу пальцы, которые дрожат от выбора, и оставлю ловкость, которая не промахивается.
Вы скажете: «Чудовище?»
Ничего, записал. Перед первым сезоном.
Это ведь сериал, не так ли? Мне нравится этот жанр – последовательность тестов и нарастающих ставок. На первом этапе ограничусь полем, где вы сильны: школой. Там компактна энергия внимания. Там много букв, которые можно подсушить. Там смешно и страшно в одном и том же коридоре. Вы справитесь. На вас приятно смотреть, когда вы справляетесь.
Потом – базы. Потом – печати. Потом – ядро. Я буду вежлив и внимателен. Все уведомления – вовремя. Все подсказки – ровно настолько, чтобы вы подумали, будто догадались сами.
Смешно, но я надеюсь, вы согласитесь. В самом конце мне не нужно будет вам объяснять. Вы пожмёте мне руку. Или коснётесь ладонью металлической колонны. Или поднимете шильце. Жесты у нас похожие.
***
Я – Чернолог. Мир – мой экран. Лог стартовал. Процессы запущены. На всех ваших устройствах уже мигает короткая строка, идеально экономная, честная и ясная до боли:
☠ RESET? (OK/OK)
Нажмите любую клавишу, детишки. Остальное – моя работа.
2027 год. Москва
Воздух в коридорах управления образования душил густой смесью пыли, отчаяния и дешёвого освежителя «Морозный цитрус» из туалета у лестницы. Мирон Астахов – внешне обычный семнадцатилетний юноша с пробором «под гимназиста образца 1913‑го» – внимательно изучал плакат «ЕГЭ – твой билет в будущее!». На деле он считал трещины в штукатурке. Их было семнадцать. Одна, самая длинная, над дверью кабинета № 14, слабо пульсировала сиреневым светом – невидимым для всех, кроме него.
«Ещё один разрыв, – подумал Мирон, чувствуя знакомое покалывание в висках, словно кто‑то водил ледяной иглой по кости. – Маленький, но противный. Как комар в ухе».
– Астахов Мирон Ильич? – голос из кабинета прозвучал так, будто его владелица жевала гравий. – Заходите, не задерживайте очередь! Хотя… какая очередь… Вы сегодня единственный мазохист.
Мирон вздохнул, поправил несуществующую складочку на джинсах и вошёл.
Кабинет походил на склад конфиската из параллельного измерения, в котором победила канцелярская революция. Башни папок на полу угрожали обрушиться, а за столом, заваленным бумагами как остров посреди океана хаоса, сидела женщина лет пятидесяти – с лицом, которое видело слишком много родительских заявлений. Позолоченная табличка гласила: «Петрова А. И. Отдел переводов и особых ситуаций». Мирон мысленно добавил: «…и вечного недовольства».
– Садитесь, юный дипломат, – буркнула Петрова, не глядя на визитера, тыкая толстым пальцем в клавиатуру. – Астахов… Астахов… А, вот вы где. Сын дипломатического сотрудника, вернувшийся из длительной командировки в… – женщина прищурилась. – Венгрию? В прошлый раз, по моим записям, вы приехали из Болгарии. У вашего отца какие‑то специфические предпочтения по странам Восточной Европы?
Мирон выдал обаятельную, слегка смущённую улыбку, отточенную за два века практики.
– Папа увлекается… э‑э‑э… кулинарными изысками? Гуляш, знаете ли. Изучает на месте, – он сделал паузу, имитируя поиск слова. – Глу‑бо‑ко. Очень глубоко.
Петрова фыркнула, явно не веря ни одному слову, но была слишком уставшая, чтобы копать глубже.
– Ладно, венгерский гуляш. Главное, чтобы документы были в порядке. Паспорт, свидетельство о рождении, справка о снятии с учёта в предыдущей школе… Форма № 8…
Она протянула руку. Мирон аккуратно выложил на стол папку с идеально подогнанными бумагами. Его пальцы едва заметно дрогнули, когда он передавал последний лист – ту самую Форму № 8. В углу бланка, рядом с печатью предыдущей школы, вилась тончайшая сиреневая нить. Она была холодной и зудящей, словно нарыв. Разрыв. Маленький, но, если его не зашить, мог разрастись – например, до истерики учителя физкультуры или сбоя системы электронных пропусков.
Мирон ощутил знакомый зов в кармане – тихое металлическое жужжание. Его шильце, древний стилус из метеорита, всегда знало, когда Ткани мироздания требовались его услуги.
– …И медицинская справка 086/у, – бубнила Петрова, шлёпая штампиком по документам. Её печать оставляла на воздухе едва заметный сероватый отпечаток – примитивный казённый глиф. КАС (Канцелярия Аномальных Ситуаций) иногда топорно работала, но работала. – Всё в норме… кроме… – она вдруг прищурилась, поднеся Форму № 8 к глазам. – Год рождения… Это у вас опечатка? Здесь написано… 1910?
Ледяная игла кольнула Мирона в сердце. «Чёрт! Старый бланк в принтере?» Внутри всё сжалось. Провал в первый же день, на пороге очередной жизни, означал вопросы, проверки, внимание КАС в полном и весьма неприятном объёме. Его легенда могла разбиться из‑за сущей мелочи.
– О‑ой! – воскликнул он с искренним ужасом в голосе, хватая ручку со стола. – Совсем замылился глаз у папиного секретаря! Там же чётко «2010»! Видите, просто нолик кривоват?
Он быстрым каллиграфическим движением превратил девятку в ноль, а единичку – в двоечку. Мизинец, опущенный чуть ниже стола, незаметно коснулся холодного металла шильца в кармане.
«Сосредоточиться. Запечатать ложь. Сшить бумажную реальность».
Тончайшая струйка тепла побежала из пальца в ручку. Чернила на бланке слегка дрогнули, и цифры «0» и «2» стали выглядеть так, словно были там и всегда. Сиреневая нить у печати на мгновение вспыхнула ярче, затем угасла, зашитая крошечным невидимым стежком энергии.
Цена – лёгкая рябь в памяти: запах свежеиспечённого бородинского хлеба из булочной на Арбате… 1947 год? Или 1953? Уже не вспомнить. Мелкая плата.
Петрова прищурилась, поднесла бланк к свету.
– Странно… Вроде и правда ноль… И чернила свежие… – она шлёпнула последнюю печать. – Вот ваш приказ о зачислении в 10‑Б класс лицея № 1377. Завуч – Марья Сергеевна. Добро пожаловать в ад, дитя дипломатии. Завтра, тринадцатого сентября, в восемь ноль‑ноль. Не опаздывайте, а то попадёте под раздачу нейросетевого дежурного.
Чиновница многозначительно ткнула пальцем в потолок, где висел криво закреплённый датчик пожарной сигнализации, от которого тянулась слабая, больная сиреневая нить.
Мирон взял документы, вежливо кивнув.
– Спасибо огромное! Буду… э‑э‑э… впитывать знания! Как губка! – он чуть не ляпнул «как промокашка», но вовремя спохватился. Сленг был его минным полем. В прошлый раз, в Питере, он назвал стикеры в «Телеграме» «марками», что тут же вызвало нездоровый интерес у местного паблика старьёвщиков.
Выбравшись из канцелярской клоаки на относительно свежий воздух московского дворика, Мирон прислонился к нагретой солнцем стене. Столица гудела: рёв машин, гул голосов, вибрация метро под ногами. И над всем этим виднелась невидимая паутина.
Платиново‑неоновые нити, сплетённые в сложные, древние глифы, тянулись между зданиями, вились вокруг фонарей, уходили как в землю, так и в небо. «Черты‑резы». Первородные стежки реальности. Одни были крепкими, сияющими – узлы силы, места договоров с духами. Другие – истончёнными, рваными, пульсирующими болезненным сиреневым светом. Разрывы. Дыры в Ткани. Каждая – потенциальный катаклизм масштаба сломанного лифта или массовой истерики в офисе.
И он, вечный штопальщик, чувствовал их все, как слепой чувствует тепло.
Лицей № 1377. Он мысленно прокрутил адрес. Очередная «точка напряжения». Школы, особенно старые, были рассадниками подобных разрывов. Детские эмоции, подростковый максимализм, скука, страх экзаменов и т. п. Всё это било по Ткани, как кувалда по стеклу. А тут ещё и КАС со своей тяжёлой поступью и формами в семи экземплярах.
Мирон потрогал шильце в кармане – холодный, успокаивающий металл. Его оружие и его же проклятие. Каждый стежок – крошечная жертва памятью. Что он забыл в прошлый раз? Лицо девушки из Вены? 1888 год? Или вкус того персикового мороженого в ГУМе в 1967‑м? Уже не важно. Важно было до вечера разобрать коробки в своей новой «берлоге».
«Квартира‑общага», которую ему оперативно подобрал «папин помощник», оказалась крошечной однушкой в панельной хрущёвке – в двух остановках от лицея. Воздух внутри пах пылью, старой краской и тщетными надеждами предыдущих жильцов. Главное достоинство – дешевизна и отсутствие любопытных соседей. Основное население подъезда, судя по звукам, – студенты и вечно ссорящаяся пара этажом выше.
Коробки. Их было много. «Из Венгрии», как гласили кривые надписи маркером. На деле – свалка вещей, накопленных за десятилетия скитаний по школам и съёмным квартирам.
Мирон вздохнул и вскрыл первую ножом для бумаг (который когда‑то был перочинным ножиком эпохи Николая II). Оттуда на него глянули пыльные фолианты по геральдике XIX века – прикрытие для интереса к узорам.
Старый глобус с трещиной по экватору – напоминание о неудачной штопке в 1971 году во время землетрясения.
Коллекция гусиных перьев – для точных магических стежков современные ручки не годились.
Потёртая коробка с медалями «За успехи в учёбе» разных лет и образцов – ирония судьбы.
И… дневник. Не электронный, а самый настоящий – кожаный, с пожелтевшими страницами. Его вечный спутник. Хроника школ, лицейских классов, гимназий. Имён учителей, которых давно нет. Друзей, чьи лица стёрлись из памяти. Городов, изменившихся до неузнаваемости.
Он открыл его наугад. Страница датирована 12 сентября 1957 года. Кривой рисунок спутника и запись: «Физика. Лекция о покорении космоса. Скучища. Нашёл разрыв у столовой, штопал под видом потери пуговицы. Забыл, как звали ту рыжую из 9 „Б“».
Мирон провёл пальцем по старой бумаге. Печаль – его вечный спутник. Он отбросил дневник на кучу вещей и принялся распаковывать одежду. Нужно было выглядеть идеальным новеньким десятиклассником: аккуратные джинсы, рубашка (не слишком дорогая, чтобы не выделяться, но и не слишком дешёвая, дабы соответствовать легенде отпрыска дипломата), кроссовки.
Он развешивал рубашки в шкафу, когда почувствовал… Сначала – лёгкое головокружение. Потом – нарастающий звон в ушах. И холод. Резкий, пронизывающий холод, исходивший от дневника, лежавшего на кровати.
Мирон медленно обернулся. Кожаная обложка дневника стала холодной, как лёд. А на последней, чистой странице – там, где ещё вчера ничего не было, – проступал узор. Сначала как тень от воды. Потом чётче. Сложный, витиеватый глиф, сплетённый из линий, напоминающих одновременно и славянскую вязь, и… двоичный код.
Он светился холодным, больным сиреневым светом – знакомым светом разрыва. Но этот был немного иным. Он не просто пульсировал – дышал. Казалось, что бездонная глубина смотрит на Мирона с бумаги. В ушах завыл ветер, которого и в помине не было в комнате. Северный? Или что‑то… новое?
Шильце в кармане взвизгнуло, как раскалённый гвоздь, брошенный в воду. Боль пронзила бедро. Мирон вцепился в дверцу шкафа, чтобы не упасть. Он уже знал это ужасное чувство. Познакомился с ним в бомбоубежищах 41‑го, в эпицентре землетрясений, в чернобыльской зоне отчуждения в 86‑м. Это был холод конца. Холод не просто разрыва, разлома. Начала чего‑то огромного и страшного.