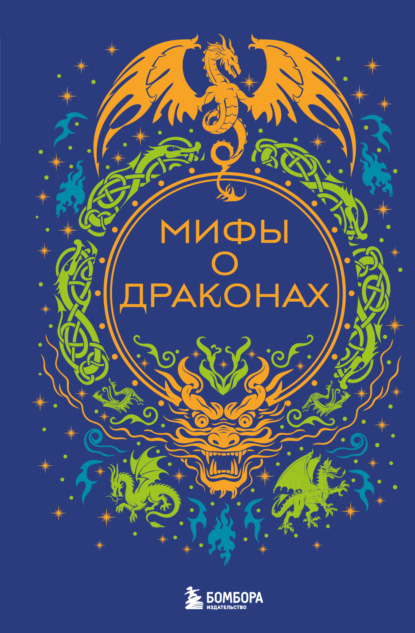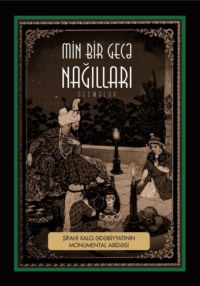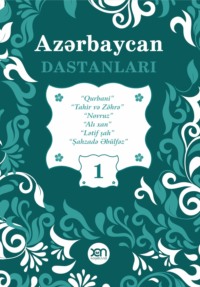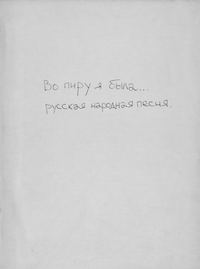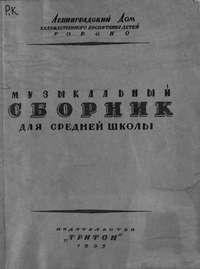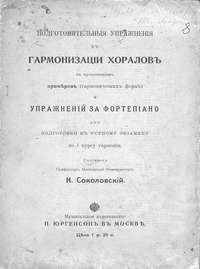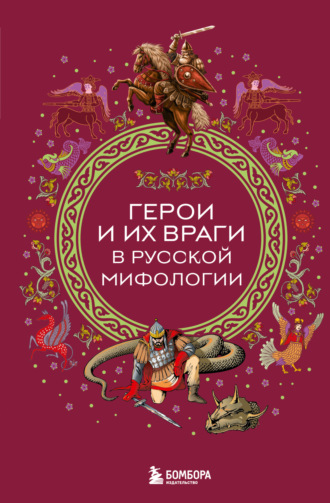
Полная версия
Герои и их враги в русской мифологии

Герои и их враги в русской мифологии
© Афанасьева И. В., текст, 2025
© ИП Москаленко Н. В., оформление, 2025
© Давлетбаева В. В., обложка, 2025
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство Эксмо», 2025
Введение
Этот день Горислав запомнит надолго. Из-за напавшей на деревню хвори, занесенной Моровой девой, он пропустил подходящее время для посева и сейчас наверстывал упущенное, работая в поле от зари до зари. Его лошаденка старалась из последних сил, и, если боги будут милостивы, он сможет до темноты закончить распашку с таким трудом отвоеванного у леса участка. Горислав вытер лицо рукавом рубахи и поправил повязку, не дающую поту выесть глаза. Опушка была совсем рядом. Еще два прохода – и он наконец пойдет домой к ожидавшим его хозяйке и детям.
Внезапно резко стемнело. Пахарь поднял голову и взглянул на еще недавно голубевшую чашу небосвода: огромная черная туча почти закрыла солнце, наползая на него двумя отрогами, похожими на челюсти огромного чудовища. Горислав боязливо огляделся по сторонам. Мужики-односельчане, суетясь, разворачивали своих лошадок в сторону дома, побросав грубо сделанные сохи. По-хорошему, Гориславу тоже надо было спасаться бегством, но до окончания работы оставалось совсем немного, и он решил рискнуть. Пахарь хлестнул Сивку по вислому крупу, и тот, коротко заржав, побрел по уже подсохшей после таяния снега земле.
По полю пронесся резкий порыв ветра такой силы, что Горислав пожалел о своем опрометчивом решении и, махнув рукой на стремление наверстать потерянное время, поспешил к коню. Выпрягая Сивку, он все больше ощущал непонятное беспокойство. Почти над головой сверкнула молния, и тут же раздался оглушающий раскат грома. Сивка резко встал на дыбы, забив передними ногами в воздухе. Горислав, не ожидавший от своего уже немолодого коня такой прыти, выпустил вожжи из рук, и конь, брыкаясь, помчался к дому, словно отбивался от неведомого врага.
И тут на землю хлынул ливень, скрывший за водяной завесой окружающий пейзаж. Решив переждать непогоду, Горислав подбежал к опушке леса и встал под кронами могучих деревьев, стараясь увернуться от стекавших по листве струй воды. Это был настоящий конец света: молнии непрерывно сверкали, заливая окрестности мертвым холодным светом, а гром грохотал, закладывая уши, так что Горислав не слышал себя самого, хотя во весь голос молил Перуна о спасении.
Оглушенный грозой, Горислав не заметил, как из-за деревьев появился тощий медведь со свисавшими по бокам клочьями бурой шерсти. Это был шатун – проклятие деревни, за какие-то грехи насланное на нее Велесом. Лесное страшилище с огромными желтыми клыками в оскаленной пасти уже задрало нескольких собак, покалечило двух охотников и оставило следы когтей на дверях почти всех домов, стоявших на околице деревни. Кто-то или что-то подняло его из берлоги посреди зимы, и сейчас оголодавший, а потому бесстрашный зверь спешил к ничего не подозревавшей добыче, презрев собственные инстинкты, требующие от него спрятаться от грозы.
Горислав заметил грозившую ему смертельную опасность, когда косолапый был уже совсем рядом. Страх придал сил, и мужик бросился прочь от хищника через свежевспаханное поле, забыв о том, что от медведя убежать невозможно. Но он мчался, не разбирая дороги, к дому, ожидая каждое мгновение, что на него навалится тяжелая туша и страшные клыки вцепятся в шею, ломая позвоночник.
Снова вспыхнула молния, и в громе Гориславу явственно послышался близкий рев зверя. В его легких уже не было воздуха, и несчастный упал на колени, отдавшись на волю богов. Но медведь почему-то не нападал. Более того, Гориславу показалось, что гроза стала заканчиваться и потоки воды уже не с такой силой били о землю, превращаясь из ливня в благодатный весенний дождь.
Но почему его не загрыз хозяин леса? Может, побоялся во время грозы выскочить из-под спасительного лесного полога? Горислав поднялся на ноги и оглянулся. Неподалеку от него лежала туша медведя с обугленной шерстью. Не веря своим глазам, Горислав подошел к поверженному хищнику и опасливо обошел вокруг, словно тот мог еще вскочить после удара молнии.
Убедившись в смерти косматого чудища, Горислав опустился на землю, невзирая на стоявшие кругом лужи, и облегченно заплакал, пользуясь тем, что никто не видит его мгновенной слабости. Дождь лил все тише и тише. Пауза между вспышками молний и грохотом грома все увеличивалась. Туча уходила на запад, небо светлело на глазах…
Горислав смахнул с лица слезы и, поднявшись, отряхнул промокшую насквозь одежду, а затем направился к дому, оглядываясь на поверженного хозяина леса. Он все-таки закончит сегодня пахоту, чего бы это для него ни стоило, надо только разыскать Сивку. Если уж сам Перун спас его жизнь, это что-то да значит…
Познание мира через миф
К сожалению, мы мало знаем о дохристианской мифологии на Руси, поскольку отечественных литературных записей тех времен не существует. Ученым приходится по крупицам собирать крохи мифов, сохранившиеся в загадках и поговорках, старинных плачах, апокрифической литературе и в трудах иностранных историков.

Неизвестный автор. Обложка детской книги с изображением жилища Бабы-яги. Тип. изд-ва И. Д. Сытина. 1915 г.
В отличие от других древних народов – греков, римлян, египтян, индийцев, – успевших создать государства и за сотни лет привести свои мифы в более-менее стройную систему, языческая Киевская Русь в форме единого государства просуществовала чуть больше ста лет. До того на этих землях жили отдельные славянские племена и союзы племен, и пантеоны их богов могли различаться. Даже если у двух племен в целом почитались сходные божества, «акценты» могли быть разными в зависимости от основных занятий, климата и уклада жизни: например, в одном племени больше почитали богов – покровителей скотоводства, в другом – божеств, олицетворявших земледелие. В результате такой «нестыковки» один и тот же персонаж в разных местах мог исполнять различные функции. Яркий тому пример – известная всем Баба-яга. То она детишек в печь отправляет и черепа на тын насаживает, то доброму молодцу клубочек путеводный дает и помогает на тот свет по делам сбегать, то мечом размахивает. Она, правда, не богиня, но менее противоречивой от этого не становится. Есть и еще одна версия: в дохристианской мифологии Баба-яга была пограничным персонажем, связывавшим мир живых и мир мертвых, этим и обусловлена ее противоречивость. И кстати, костяная нога – тоже примета частичной принадлежности к загробному миру.
Да и жившие на одной территории персонажи не оставались статичными, а меняли свои характеры по мере развития цивилизации, становясь более гуманными к людям. Или изначально обладали на редкость противоречивыми чертами – причин у этого было много. Например, древние боги у всех народов ассоциировались с силами природы, а стихия не может быть положительной или отрицательной, она по большому счету непредсказуема. Скажем, Аполлон у древних греков предстает в мифах и как светозарный красавец с кифарой, покровитель муз и отец бога медицины Асклепия, и кровожадным божеством, безо всяких душевных терзаний содравшим кожу с Марсия и перебившим ни в чем не повинных детей хвастливой Ниобы. Правда, с течением времени и с развитием мифа такая двойственность часто сглаживалась.
Огромный вклад в изучение русской мифологии внес русский собиратель фольклора, историк и литературовед Александр Николаевич Афанасьев, живший в середине XIX века.
Его судьба была трагичной. Окончив юридический факультет Московского университета, он преподавал словесность и русскую историю, а затем работал в Московском главном архиве Министерства иностранных дел. Дослужился до надворного советника. Параллельно с основной работой интересовался литературой и фольклором. Печатался в основанном А. С. Пушкиным журнале «Современник» и в «Отечественных записках», оказавших большое влияние на литературную жизнь России. Пытался без особого успеха издавать журнал «Библиографические записки».
Первый сборник А. Афанасьева «Русские народные легенды» был забракован цензурой, которую впоследствии поддержал Синод из-за не совпадавших с официальной версией народных историй о житии святых и Христа.
Но главным трудом своей жизни А. Н. Афанасьев считал трехтомник «Поэтические воззрения славян на природу», в котором изложил взгляды на солнечную мифологию древних славян, связав миф с процессами, происходящими в природе. Увы, его колоссальный труд, основанный на огромном количестве материала, остался незамеченным широкой публикой. И только вышедший впоследствии двухтомник «Русские детские сказки» вызвал у читателей восторг, и так получилось, что мы сейчас помним Афанасьева не как фольклориста-теоретика, а как человека, собравшего более шестисот русских сказок, которыми мы зачитываемся до сих пор.

Неизвестный автор. Портрет Александра Николаевича Афанасьева из сборника «Народные русские сказки». XIX в.
Со становлением Киевской Руси как государства потребность в «божественной унификации» становилась все сильнее. Наконец, князь Владимир попытался привести религиозную жизнь своих подданных в более-менее стройную систему и поставил неподалеку от своего жилища идолов шести богов – Перуна, Хорса, Даждьбога, Стрибога, Мокоши и Семаргла (Симаргла) с главенствовавшей ролью Перуна, бога-громовержца[1]. Уточним: основной источник, благодаря которому нам известно об этом событии, – летопись «Повесть временных лет», созданная в начале XII столетия. Предположительный автор летописи, монах Нестор, мало того что не был непосредственным свидетелем этих событий, так еще и судил о них со своей христианской точки зрения. Поэтому и в перечне имен «божественной шестерки», и в описании самого события возможны неточности: «И стал Владимир княжить в Киеве один, и поставил кумиры на холме за теремным двором: деревянного Перуна с серебряной головой и золотыми усами, и Хорса, Дажьбога, и Стрибога, и Симаргла, и Мокошь. И приносили им жертвы, называя их богами»[2]. Из-за уже упоминавшейся нехватки информации о дохристианских богах славян мы не можем с уверенностью судить о том, каковы были функции каждого из шести богов Владимирова пантеона. Практически не вызывает сомнения тот факт, что Перун почитался

Неизвестный автор. Радзивиловская летопись. Княжение Владимира Святославича в Киеве; воздвижение по его повелению на холме деревянных фигур бога Перуна и других языческих божеств. XV в. [3]
как громовержец и был, по сути, аналогом греческого Зевса, скандинавского Тора и многих других подобных богов. Более или менее «установлена личность» Мокоши – покровительницы женщин, домашнего очага и рукоделия. А вот прочие… Даждьбог, возможно, почитался как бог солнца, плодородия и света. Более того, есть предположения, что изначально именно он, а не Перун, был верховным божеством. Сомнения вызывает Хорс – то ли бог Солнца (еще один!), то ли одно из обличий Даждьбога. Стрибога часто определяют как покровителя ветра и воздуха. Загадочнее всех в этой компании, пожалуй, Семаргл: ряд исследователей считают его олицетворением огня, богом растительности либо вестником богов (чем-то наподобие греческого Гермеса). Высказываются также версии, что Семаргл – заимствованное божество: его имя производят от ассирийских слов «поклоняться» и «огненная стихия» или от иранского «Симург» – имени царя всех птиц. Возможно, часто встречающееся в древних орнаментах изображение существа, похожего на крылатого пса или леопарда, – это одна из ипостасей Семаргла (ниже мы еще раз обратимся к возможным обличьям и обязанностям древних славянских богов).
Насколько дисциплинированно подданные начали исполнять распоряжения князя, повелевшего особо почитать шесть отобранных им божеств, нам неизвестно. Но можно предположить, что часть киевлян не очень-то поняла суть реформы. Как уже говорилось выше, у разных племен, которые относительно недавно объединились в одно государство – Киевская Русь, «комплекты» почитаемых богов могли быть разными, несмотря на то что все эти племена были славянскими. Так, например, значимость Перуна, которого многие исследователи традиционно считают верховным богом славян и покровителем князя и дружины, за пределами Киева могла быть значительно ниже.
Владимир еще раз подумал и, решив, что сломать старый дом и на его месте построить новый проще, чем пытаться приспособить имеющийся к новым реалиям, через восемь лет сверг идолов и крестил Русь.
Новая вера не всегда и не везде внедрялась легко и безболезненно. Отчасти именно этим объясняется такое большое количество языческих пережитков в русской культуре: часто они просто маскировались под новые реалии. Так что процесс не формальной, а фактической христианизации Руси, породив двоеверие, растянулся на несколько столетий. Отголоски язычества дошли до нас сквозь тысячу лет непростой истории Руси-России, а автор «Повести временных лет» уже в XII веке жаловался, что русские люди только на словах называются христианами, а на деле живут как язычники.
Но откуда же взялись мифы о богах и героях и зачем они были нужны?
Древние люди, постигая мир, сравнивали все непознанное с тем, что им хорошо знакомо. У соседа телега грохочет так, что перекрывает любой шум, значит, гром – это грохот повозки Перуна, на которой бог мчится, чтобы сразиться с укравшим солнце Змеем. Идет грибной дождик при сияющем солнце – значит, небесные девы умывают светило.
Возникнув, выражаясь высоким штилем, как художественный способ объяснения явлений природы, взаимоотношений между земными и космическими началами, мифы понемногу трансформировались. Олицетворявшие явления природы боги все более очеловечивались. Языческие божества, на смену которым пришли образы христианских святых, превратились в сказочных персонажей; светлым небожителям противопоставлялся мир низшей мифологии – обитателей болот, лесных чащ и перекрестков. Все человеческие страхи получили свои имена, расселившись в лесах, полях, домах и других «нехороших» местах, стуча по ночам, путая пряжу и совершая гораздо более страшные вещи. Так появились низшие божества – духи. Домовые, русалки, овинники, кикиморы – это наследие древних верований, обожествлявших силы природы. Впоследствии эти персонажи стали героями народного фольклора и переселились в сказки.

Идолы до сих пор играют большую роль во многих культурах. На фото – ритуальные изображения на Гавайях
Со временем мифы пошли в народ, разбившись на полные магии сказки и былины, герои которых становились все более историческими. Битва небесная превращалась в побоище с земными врагами. Слушали княжеские дружинники песни сказителей и узнавали в них свою жизнь – и имена великих воинов им знакомы, и стольный Киев-град за слюдяным окном все также шумит, и враги какими отвратительными были, такими и остались. И грезит каждый из добрых молодцев, звеня кольчугой, что сможет прославиться и его имя тоже останется в памяти потомков.
Но даже в изрядно очеловеченных нашими предками богатырях нет-нет да и проснутся стихийные силы природы. То их меч-кладенец за один взмах убивает сотни врагов, то выпивают герои за раз чару зелена вина в полтора ведра, то Илья Муромец, поссорившись с князем Владимиром, маковки церквей в Киеве стрелами посшибает… Узнаете в мече молнию, в зелене вине – дождь, а в слетающих с церквей маковках работу урагана?
Мифы проникли и в так называемые волшебные сказки. Их герои тоже борются с хтоническими[4] существами, всячески вредящими роду человеческому. Только в сказках, в отличие от мифов, рассказывается камерная история. Здесь не происходят битвы стихий, но сказки учат нас жизни, честности, любви и справедливости, борьба за которые может потребовать напряжения всех сил.
Так как же связаны древние славянские мифы, о которых нам мало что известно, с былинами и сказками? Как складывался образ героя в народном творчестве? Вопрос о славянских верованиях (как, собственно, и об истории самих славян) и их последующей трансформации – один из самых дискуссионных в отечественной историографии. В нашем распоряжении – сотни монографий, статей, сборников на эту тему; причем очень часто их авторы защищают диаметрально противоположные точки зрения. Так, на страницах этой книги мы апеллируем к исследованиям таких известных специалистов, как, например, Б. А. Рыбаков, В. Н. Топоров и многие другие; но их версии не единственные, и по мере необходимости мы будем обращаться также к трудам других исследователей и представлять читателю иные, не менее интересные гипотезы. Славянский миф и его отражение в более поздних литературных памятниках – явление удивительно интересное и многогранное, и ставить точку в его исследовании пока рано. Да и будет ли она поставлена когда-нибудь?
Глава 1
Мифы: битва стихий
Следствие ведут мифологи
Наука почти не располагает литературными свидетельствами о пантеоне восточных славян, если не считать скудных упоминаний византийских, арабских и некоторых других историков, поэтому малейшее упоминание о нем – на вес золота. Чтобы найти крупицы информации о славянском пантеоне, ученым приходится изучать множество хроник, летописей, апокрифов и других источников, нередко весьма странных, если не сказать сомнительных. Иногда сокровища обнаруживаются в трудах, казалось бы, не имеющих отношения к Древней Руси. Что-то приходится экстраполировать на Русь, изучая труды, посвященные нашим соседям, поклонявшимся схожим с нашими богам, – прибалтам и южным славянам.

Лист из Лаврентьевской летописи. 1377 г. Российская национальная библиотека. F.IV.2. Л. 25.
Большой вред изучению восточнославянского наследства нанесла так называемая кабинетная мифология, процветавшая в XVIII–XIX веках, когда энтузиасты-фольклористы додумывали мифы, создавая новых богов, прекрасно ложившихся, как им казалось, на картину мира наших предков.
Советский и российский фольклорист и филолог Людмила Виноградова возмущалась: «Движимые стремлением описать славянскую мифологию по аналогии с детально разработанной античной, авторы первых трудов по славянскому язычеству создавали длинные списки так называемых божеств, названия которых добывались порой весьма сомнительными способами… Так возникли… многочисленные лели, леды, любмелы, дзевои, паляндры, зимцерлы и прочие искусственно созданные персонажи, включенность которых в архаические верования славян не подтверждается ни надежными письменными источниками, ни данными устной народной культуры»[5].
С двумя примерами того, с чем приходится работать мифологам, мы сейчас познакомимся. Начнем с так называемой «Велесовой книги», якобы дошедшей до нас из глубокой старины.
Этот артефакт часто называют «Дощьки Изенбека», или «Дощечки Изенбека». Свое название – «Велесова книга» – он приобрел впоследствии по одной из страниц, начинавшейся с упоминания имени этого бога.

Лидия Петровна Жуковская. Иллюстрация из книги «Поддельная докириллическая рукопись». «Велесова книга». 1960 г.
История нахождения книги может служить основой для авантюрного романа. «Дощьки» были найдены в 1919 году белым офицером Федором Изенбеком в разоренной усадьбе села Великий Бурлук и представляли собой покрытые письменами деревяшки, пропитанные маслом.
После поражения белогвардейцев Изенбек перебрался в Европу из России, охваченной огнем Гражданской войны, и в 1925 году познакомился в Брюсселе с инженером-химиком и писателем Юрием Миролюбовым, увлекавшимся фольклором. Дальше следует почти детективная история. Изенбек якобы показал дощечки Миролюбову, но, по словам последнего, не давал сделать с них качественные фотографии вплоть до своей смерти в 1941 году. «Дощьки» канули в Лету вместе с ним.
Правда, Миролюбову удалось переписать часть книги и даже сделать фото одной странички, текст на которой начинается с упоминания Велеса. После публикации выдержек из книги в журнале «Жар-птица» (Сан-Франциско) в конце 50-х годов вокруг находки возник ажиотаж. Но затем специалисты выявили ряд огрехов, не позволявших считать ее достоверным источником. На сегодняшний день большинство ученых, среди которых А. А. Зализняк, Б. А. Рыбаков, О. В. Творогов и многие другие, признали «Велесову книгу» фальшивкой, сделанной либо самим Миролюбовым, желавшим создать себе имя, либо неким А. Сулакадзевым, которому принадлежит огромное количество подделок исторических документов типа «Гимна Бояна».

Федор Артурович Изенбек. Автопортрет. 1934 г.

Жорж Рошгросс. Римская вилла в Галлии, разграбленная ордами Аттилы. Около 1938 г.
Начинается «Велесова книга» с гимна богам, в котором они перечисляются в порядке убывания важности. Главными среди них почитаются старший сын демиурга Рода и владыка Прави Сварог, громовержец Перун и бог Белого света, защитник Яви от Нави Свентовит. Причем в этом достаточно длинном перечне западнославянские боги, культ которых процветал на побережье Балтийского моря (Свентовит), соседствуют с восточнославянскими, например Стрибогом. Тут же пристроились возможные восточные «подселенцы» Хорс с Семарглом (слившиеся с Даждьбогом и Переплутом), а в дальнейшем еще и индуистский Индра выскакивает как чертик из табакерки.
Закончив с богами, рассказчик переходит к истории славян, которая, по его словам, начинается с некоего Богумира, у которого было три дочери и два сына, ставших родоначальниками славянских племен. Жили они в Семиречье, где-то между озерами Балхаш, Сасыколь, Алаколь и Джунгарским Алатау. Спасаясь от гуннов, эти люди однажды пустились в многолетнее странствие, закончившееся появлением их потомков в Киеве.
Рассказ о мытарствах наших пращуров воистину удивителен. Невозможно не улыбнуться, читая такие образчики «божественных откровений», как рассказ о пророчестве Сварога Орею о будущем его потомков. Там он предрекает им великие победы над разными родами, умеющими извлекать силу из камня и делать «повозки без коней». Если «извлечение силы из камня» еще можно отождествить с добычей угля или получением атомной энергии, то интересно, какие производящие автомобили роды Сварог имел в виду: «Мерседес», «Фиат», «Астон Мартин» или «Дженерал Моторс»?
Если «Велесова книга» среди специалистов считается подделкой, то в подлинности многотомного труда «Деяния данов» (Gesta Danorum) Саксона Грамматика никто не сомневается.
Как следует из названия, он посвящен истории и мифологии Дании. До наших дней дошел не полностью, но все же дает возможность создать цельное впечатление. Казалось бы, какое нам дело до скандинавских мифов? Но не будем торопиться! В четырнадцатом томе Грамматик, повествуя о военных походах датских королей Фродо[6] (Frotho) I и Фродо III на восток, рассказывает о славянских богах средневековой Прибалтики.
Разумеется, боги полабских славян не тождественны их восточнославянским собратьям, но, чтобы природа русских мифов стала понятней, есть смысл задержаться на «Деянии данов».
Нам мало что известно о жизни датского хрониста Саксона Грамматика (около 1150 – около 1220), изложившего в своих книгах древние скандинавские саги. Вроде бы родился он на самом большом в Балтийском море острове Зеландия в знатной семье потомственных военных и получил хорошее образование. В молодости послужил в боевой дружине, а затем стал секретарем известного церковного деятеля тех времен – лундского епископа Абсалона. Благодаря занимаемой должности Грамматик имел возможность путешествовать и работать в библиотеках, результатом чего стал многотомный труд «Деяния данов».

Саксон Грамматик. Деяния данов. XII в. Королевская библиотека. Копенгаген, Дания
В «Деяниях» приводится легенда о принце Амледе, ставшем прототипом принца Гамлета в трагедии Шекспира. Правда, у хрониста судьба принца сложилась чуть менее трагично. Он не только избежал казни в Англии, чего требовал в секретном письме его отчим, но и обручился с английской принцессой, после чего вернулся в Данию, успев на собственные поминки. Там он напоил до беспамятства всех присутствовавших, после чего сжег королевский дворец, не дав никому спастись, включая ненавистного отчима. Отомстив за отца, Амлед вернулся в Англию, женился и погиб позже в битве с датским королем, посчитавшим, что «лучший в Дании боец» стал слишком независимым от датской короны.