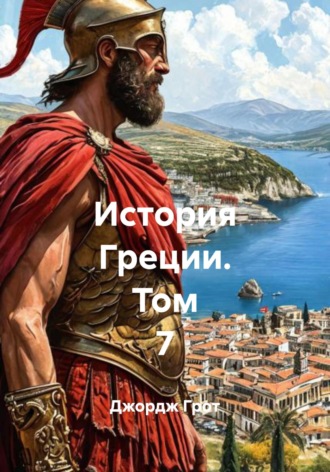
Полная версия
История Греции. Том 7
Для лакедемонских эфоров это предложение было крайне выгодным – именно того, чего они тайно добивались. Начались переговоры, в ходе которых аргосские послы сначала предложили передать спорное [p. 28] владение Фиреей на арбитраж. Однако их требование было встречено категорическим отказом: лакедемоняне не желали вступать в такие обсуждения и настаивали на простом возобновлении мира. В конце концов аргосские послы, страстно желавшие оставить вопрос о Фирее открытым, так или иначе, убедили лакедемонян согласиться на следующее необычное условие. Мир между Афинами и Спартой заключался на пятьдесят лет; но если в любой момент этого срока, исключая периоды эпидемий или войны, одной из сторон покажется удобным решить спор о правах на Фирею поединком избранных бойцов равного числа, это будет разрешено. Поединок должен был происходить на территории самой Фиреи, а победителям запрещалось преследовать побеждённых за пределы бесспорной границы. Стоит вспомнить, что примерно за сто двадцать лет до этих событий уже был подобный поединок между тремя сотнями бойцов с каждой стороны, в котором, несмотря на отчаянную храбрость обеих сторон, победа – а с ней и спорное право – так и остались неопределёнными. Предложение аргосцев возрождало эту старую практику судебного поединка; однако настолько изменился греческий образ мысли за прошедшее время, что теперь это казалось совершенной нелепостью даже лакедемонянам – самым консервативным из греков. [43] Но поскольку на практике они ничего не теряли, соглашаясь на столь расплывчатое условие, и крайне стремились уладить отношения с Аргосом в преддверии разрыва с Афинами, они в конце концов приняли это требование, составили договор и вручили его послам для передачи в Аргос. Для вступления договора в силу требовалось формальное одобрение и ратификация аргосским народным собранием; если бы это было получено, послов приглашали вернуться в Спарту на [p. 29] праздник Гиакинфий и там совершить обряд клятв.
В этом странном переплетении целей и интересов спартанские эфоры, казалось, добились всего: дружбы с Аргосом, разрыва с Афинами и одновременно – благодаря владению Панактом – возможности добиться от Афин уступки Пилоса. Однако их позиция была ещё непрочной. Когда их послы – Андромед и двое его коллег – прибыли в Беотию, чтобы отправиться в Афины и вести переговоры о Панакте (в то время как Евстроф и Эсон вели переговоры в Спарте), они впервые обнаружили, что беотийцы вместо того, чтобы выполнить обещание и передать Панакт, сравняли его с землёй. Это был серьёзный удар по их шансам на успех в Афинах. Тем не менее Андромед отправился туда, взяв с собой всех афинских пленных, находившихся в Беотии. Он вернул их Афинам, одновременно объявив о разрушении Панакта как о свершившемся факте. Панакт, как и пленные, таким образом, был возвращён, утверждал он, ведь афиняне теперь не найдут там ни единого врага – и он потребовал уступки Пилоса в обмен. [44]
Но вскоре он понял, что предел афинской уступчивости был достигнут. Вероятно, именно тогда в Афинах впервые стало известно о заключённом отдельно союзе между Спартой и Беотией, поскольку действия этих олигархических правительств обычно держались в тайне, а в данном случае был особый мотив скрывать этот союз до завершения обсуждения вопроса о Панакте и Пилосе. И этот союз, и разрушение Панакта вызвали у афинян сильнейшее негодование и гнев, которые, вероятно, лишь усилились, а не смягчились из-за уверток Андромеда, утверждавшего, что разрушение крепости равнозначно её возвращению, исключает дальнейшее пребывание там врага и тем самым полностью удовлетворяет условиям договора. Всё это усугублялось ещё и воспоминанием о других невыполненных пунктах соглашения. Прошёл уже целый год, наполненный, говоря современным языком, бесконечными нотами и протоколами, однако ни одно из [стр. 30] условий, выгодных Афинам, так и не было выполнено, за исключением возвращения пленных, которых, судя по всему, было немного. В то же время сами Афины сделали Спарте ключевую уступку, от которой зависело почти всё. Долго копившееся негодование, достигшее предела после миссии Андромеда, вылилось в резчайший отпор и выговор ему и его коллегам. [45]
Даже Никий, Лахет и другие влиятельные деятели, чьи недальновидная уступчивость и ошибки привели к нынешним затруднениям, вероятно, не слишком отставали от общественного мнения в обвинениях спартанского вероломства – если не для чего иного, то чтобы отвлечь внимание от собственного промаха. Но среди них был один – Алкивиад, сын Клиния, – который воспользовался этим моментом, чтобы возглавить мощные антилаконские настроения, волновавшие теперь экклесию, и придать им конкретную цель.
Это первый случай, когда мы слышим об этом выдающемся человеке как об активном участнике общественной жизни. Ему было тогда около тридцати одного или тридцати двух лет – возраст, который в Греции считался ранним для занятия важных государственных постов. Но таковы были блеск, богатство и древность его рода, восходившего через героев Еврисака и Аякса к Эакидам, и таково было влияние этого родства на афинскую демократическую публику, [46] что он легко и быстро занял видное положение. Через свою мать Дейномаху он также принадлежал к роду Алкмеонидов и был в родстве с Периклом, который стал его опекуном, когда он, оставшись сиротой в возрасте около пяти лет (вместе с младшим братом Клинием), потерял отца, Клиния, павшего в битве при Коронее. Тот уже отличился ранее, командуя собственной триерой в морском сражении при Артемисии против персов. Молодому Алкивиаду дали спартанскую кормилицу по имени Амикла, а его знатный опекун выбрал для присмотра за ним раба по имени Зопир. Однако даже в детстве он был совершенно неуправляем, и Афины полнились рассказами о его выходках и безобразиях, к бесполезному сожалению Перикла и его брата Арифрона. [47] Его бурные страсти, любовь к удовольствиям, жажда превосходства и высокомерие по отношению к другим [48] проявились в раннем возрасте и не покидали его всю жизнь. Его совершенная красота – и в отрочестве, и в юности, и в зрелые годы – привлекала к нему множество женщин, [49] даже тех, что обычно отличались сдержанностью. Более того, ещё до возраста, когда такие соблазны обычно появляются, его юношеская красота, проявленная во время обычных гимнастических упражнений, обеспечила ему настойчивые ласки, комплименты и всевозможные знаки внимания со стороны видных афинян, посещавших публичные палестры. Эти люди не только терпели его капризы, но даже льстили себе, когда он удостаивал их своим вниманием.
В условиях такого всеобщего восхищения и потворства, под влиянием развращающих воздействий, оказываемых со всех сторон и с самого раннего возраста, в сочетании с огромным богатством и высшим положением, вряд ли в душе Алкивиада могли развиться самоограничение или забота о благе других. Анекдоты, наполняющие его биографию, показывают полное отсутствие обоих этих элементов нравственности. И хотя, конечно, в отношении отдельных историй следует делать скидку на сплетни и преувеличения, общий тип [стр. 32] характера остаётся отчётливым и вполне установленным.
Разгульная жизнь и неумеренная любовь ко всем формам удовольствий – это то, чего можно было бы ожидать от молодого человека в таких обстоятельствах. И, судя по всему, он предавался этим склонностям с оскорбительной публичностью, что лишало покоя его жену Гиппарету, дочь Гиппоника, павшего в битве при Делии. Она принесла ему большое приданое в десять талантов. Когда она попыталась добиться развода (что разрешалось афинскими законами), Алкивиад грубо вмешался, лишив её возможности воспользоваться законом, и силой вернул её в свой дом даже из присутствия магистрата. Именно эта ярость эгоистических страстей и безрассудное пренебрежение социальными обязательствами перед кем бы то ни было составляют отличительную черту Алкивиада. Он бьёт школьного учителя, в доме которого случайно не оказалось экземпляра Гомера; он бьёт Таврея, [50] своего соперника-хорега, прямо в театре во время представления; он бьёт Гиппоника, своего будущего тестя, из-за пустого пари, а затем задабривает его щедрыми извинениями; он защищает фасосского поэта Гегемона, против которого был подан официальный иск к архонту, стирая его собственноручно с опубликованного списка в общественном здании Метрооне, бросая вызов и магистрату, и обвинителю, если те осмелятся довести дело до суда. [51]
При этом нет свидетельств, чтобы кто-то из пострадавших осмелился привлечь Алкивиада к суду перед дикастерием, несмотря на то, что его частная жизнь представляет собой, к изумлению, сплошное беззаконие: [52] сочетание наглости и показной роскоши с occasionalной низкой хитростью, когда это ему было выгодно. Но при всём формальном юридическом, судебном и конституционном равенстве, царившем среди афинских граждан, сохранялись значительные социальные неравенства между людьми, унаследованные от времён, предшествовавших демократии. Эти неравенства, ограниченные в своём практическом вреде демократическими институтами, так и не были ни стёрты, ни дискредитированы. Они признавались как элементы, влияющие на стихийное, неосознанное течение чувств и критики – как теми, кого они ущемляли, так и теми, кому благоприятствовали. В речи, которую Фукидид [53] вкладывает в уста Алкивиада перед афинским народным собранием, высокомерие богатства и высокого социального положения не только признаётся как факт, но и оправдывается как справедливая мораль. История его жизни, как и многие другие факты афинского общества, показывают, что если это и не одобрялось открыто, то на практике терпелось в значительной степени – несмотря на ограничения демократии.
Среди подобных беспринципных крайностей поведения Алкивиад выделялся личной храбростью. Он служил гоплитом в армии под командованием Формиона во время осады Потидеи в 432 г. до н. э. Хотя ему едва исполнилось двадцать лет, он был в числе самых отважных воинов в битве, получил тяжелое ранение и оказался в большой опасности, оставшись в живых лишь благодаря усилиям Сократа, который сражался рядом с ним. Восемь лет спустя Алкивиад также отличился в кавалерии в битве при Делии и получил возможность отплатить Сократу за долг, защитив его от преследовавших беотийцев.
Как богатый молодой человек, он также был обязан исполнять хорегию и триерархию – дорогостоящие обязанности, которые, как и можно было ожидать, он выполнял не просто с достаточностью, но с показной роскошью. На самом деле, подобные траты, хотя и были обязательны в определенной мере для всех богачей, настолько щедро окупались – в виде популярности и влияния – для тех, кто хоть немного стремился к славе, что большинство из них добровольно выходили за необходимый минимум, желая покрасоваться.
Говорят, первое появление Алкивиада в общественной жизни произошло в качестве жертвователя на какое-то особое дело в экклесии, когда различные граждане вносили свои взносы. Громкие аплодисменты, вызванные его пожертвованием, были тогда для него настолько новы и волнующи, что он выпустил из рук ручного перепела, которого держал за пазухой. Этот случай вызвал смех и сочувствие среди присутствующих граждан. Птицу поймал и вернул ему Антиох, который с тех пор заслужил его благосклонность и впоследствии стал его кормчим и доверенным лейтенантом. [54]
Для такого молодого человека, как Алкивиад, жаждавшего власти и пре [стр. 35] восходства, определенная мера ораторского мастерства и способности к убеждению была необходима. С целью приобретения этих навыков он посещал общество различных софистов и учителей риторики, [55] Продика, Протагора и других, но чаще всего – Сократа. Его близость с Сократом стала знаменитой по многим причинам и была запечатлена как Платоном, так и Ксенофонтом, хотя, к сожалению, с меньшей назидательностью, чем нам хотелось бы.
Мы охотно верим Ксенофонту, когда он говорит, что Алкивиад – подобно олигарху Критию, о котором мы еще много будем говорить – был привлечен к Сократу его непревзойденным мастерством диалектической беседы, его способностью влиять на умы слушателей, пробуждая в них новые мысли и идеи, его умением подбирать уместные и простые примеры, его даром предвидеть итог долгого перекрестного допроса, его ироническим притворным невежеством, благодаря которому унижение оппонентов становилось еще более полным, когда они уличались в противоречиях из своих же собственных ответов. Подобные проявления изобретательности сами по себе были крайне занимательны и стимулировали умственную активность слушателей, в то время как этот навык был особенно ценен для тех, кто собирался вести публичные дебаты.
С этой целью оба честолюбивых юноши пытались перенять у Сократа его метод [56] и копировали его грозную цепочку [стр. 36] вопросов. Оба они, без сомнения, невольно уважали бедного, самодостаточного, честного, воздержанного и храброго гражданина, в котором обитал этот выдающийся талант, – особенно Алкивиад, который не только был обязан жизнью великодушной храбрости Сократа при Потидее, но и научился во время той службы восхищаться железной выносливостью философа в доспехах, переносившего голод, холод и лишения. [57]
Но мы не должны предполагать, что кто-либо из них приходил к Сократу с намерением слушать и повиноваться его наставлениям о долге или получить от него новый жизненный план. Они приходили отчасти для удовлетворения интеллектуального аппетита, отчасти – чтобы приобрести запас слов и идей, а также навыки аргументации, полезные для их дальнейшей карьеры ораторов. Темы нравственные, политические и интеллектуальные служили предметом то беседы, то споров в обществе всех этих софистов – Продика и Протагора не меньше, чем Сократа, ибо в афинском понимании этого слова Сократ был софистом так же, как и остальные. И для богатых афинских юношей, таких как Алкивиад и Критий, подобное общество было чрезвычайно полезно. [58]
Оно придавало их честолюбию более благородную цель, включая [стр. 37] интеллектуальные достижения наряду с политическим успехом. Оно расширяло кругозор их понимания и открывало им богатейший источник литературы и критики, доступный в ту эпоху. Оно приучало их анализировать человеческие поступки, причины и препятствия общественного и частного благополучия. Оно даже косвенно внушало им уроки долга и благоразумия – те, от которых их социальное положение могло бы их отдалить и которые они вряд ли согласились бы выслушать от кого-либо, кроме человека, вызывавшего у них интеллектуальное восхищение.
Учась говорить, они вынуждены были в какой-то мере учиться и мыслить, привыкая отличать истину от заблуждения. Да и красноречивый лектор не упустил бы возможности увлечь их чувства великими темами морали и политики. Таким образом, их жажда интеллектуальной стимуляции и ораторского мастерства, насколько это возможно, оказывала облагораживающее влияние, хотя редко была их истинной целью. [59] [стр. 38]
Алкивиад, полный порывистости и всевозможных амбиций, наслаждался беседами со всеми известными ораторами и лекторами Афин, но чаще и охотнее всего – с Сократом. Философ сильно привязался к нему и, без сомнения, не упускал возможности внушать ему полезные уроки, насколько это можно было сделать, не оскорбляя гордости избалованного юноши, мечтавшего о славе в общественной жизни. Но, к несчастью, его наставления не оказали серьезного влияния и в конце концов даже стали неприятны ученику.
Вся жизнь Алкивиада свидетельствует о том, как слабо в его душе укоренилось чувство долга – общественного или личного, и насколько его цели диктовались безмерным тщеславием и жаждой возвышения. В поздние годы Сократ был отмечен общественной ненавистью как учитель Алкивиада и Крития. И если бы мы были настолько несправедливы, чтобы судить о нравственности учителя по нравственности этих двух учеников, мы, несомненно, причислили бы его к худшим из афинских софистов.
В возрасте тридцати одного или тридцати двух лет – самом раннем, когда разрешалось рассчитывать на видное положение в общественной жизни, – Алкивиад выступил на сцену с репутацией, запятнанной частными безнравственными поступками, и с множеством врагов, созданных его дерзким поведением. Однако это не помешало ему занять то положение, к которому его допускали знатность происхождения, связи и поддержка товарищей по гетериям; и он не замедлил проявить свою необыкновенную энергию, решительность и способность к командованию.
От начала до конца своей насыщенной событиями политической жизни он демонстрировал сочетание смелости в замыслах, изобретательности в планировании и силы в исполнении, не превзойденное ни одним из его современников-греков. Но что отличало его от всех – это необычайная гибкость характера [60] и исключительная способность [с. 40] приспосабливаться к новым привычкам, новым обстоятельствам и новым людям, когда того требовала ситуация.
Подобно Фемистоклу, с которым он сходен как способностями и энергией, так и отсутствием общественных принципов и готовностью использовать любые средства, Алкивиад был по сути человеком действия. Красноречие было для него второстепенным качеством, подчиненным действию; и хотя его хватало для его целей, его речи выделялись лишь уместностью содержания, зачастую выраженного несовершенно – по крайней мере, по высоким стандартам Афин. [61]
Но его карьера дает яркий пример того, как блестящие качества, пригодные как для действия, так и для командования, могут быть разрушены и обращены во вред из-за полного отсутствия морали – как общественной, так и личной. Это вызвало против него мощную волну ненависти – как со стороны простых граждан, которых он оскорблял, так и со стороны богачей, чье тщеславие он затмевал своей разорительной роскошью.
Его чрезмерные добровольные траты на общественные празднества, превосходившие [с. 41] даже самые крупные частные состояния, убеждали проницательных людей в том, что он возместит их, грабя государственную казну, а при возможности – даже ниспровергнув [62] государственный строй, чтобы стать хозяином над личностью и имуществом своих сограждан.
Он никогда не внушал никому ни доверия, ни уважения, и рано или поздно в таком обществе, как афинское, накопленные ненависть и подозрения неизбежно должны были привести общественного деятеля к падению – даже вопреки глубочайшему восхищению его способностями.
Он всегда был объектом противоречивых чувств:
«Афиняне желали его, ненавидели, но всё же хотели иметь», – сказал о нём в поздние годы его жизни один современный поэт.
Другой же афоризм гласил:
«Вообще не стоит держать львёнка в городе, но если уж решил держать – покорись его нраву». [63]
Афинам пришлось испытать на себе силу его энергии, когда он стал изгнанником и врагом, но наибольший вред он нанёс им как советник, пробуждая в своих согражданах ту же жажду показного, хищнического, ненадёжного и опасного возвышения, которая руководила его личными поступками.
Упоминая Алкивиада впервые, я несколько забегаю вперёд, чтобы дать общее представление о его характере, который будет раскрыт в дальнейшем. Но на момент, которого мы сейчас достигли (март 420 г. до н. э.), львёнок был ещё молод и не обладал ни полной силой, ни выросшими когтями.
Он начал выдвигаться как партийный лидер, по-видимому, незадолго до Никиева мира. Политические традиции его семьи, как и семьи его родственника Перикла, были демократическими: его дед, Алкивиад, яростно выступал против Писистратидов и даже впоследствии публично разорвал устоявшуюся связь гостеприимства с [с. 42] правительством Лакедемона из-за сильной политической неприязни к нему.
Но сам Алкивиад, начиная политическую карьеру, отошёл от этой семейной традиции и выступил как сторонник олигархических и филолаконских взглядов, несомненно, более соответствующих его природному характеру, чем демократические.
Таким образом, он начал в той же партии, что и Никий и Фессал, сын Кимона, которые впоследствии стали его злейшими противниками. И отчасти, вероятно, чтобы сравняться с ними, он сделал решительный шаг, попытавшись возродить древние семейные узы гостеприимства со Спартой, которые его дед разорвал. [64]
Для продвижения этой цели он проявлял особую заботу о хорошем обращении с пленными спартанцами во время их содержания в Афинах. Многие из них принадлежали к знатным спартанским семьям, и он рассчитывал на их благодарность, а также на симпатии их соотечественников после их возвращения.
Он выступал за мир и союз со Спартой, а также за возвращение пленных, и не только поддерживал эти меры, но и предлагал свои услуги, стремясь стать посредником Спарты в их осуществлении в Афинах.
Исходя из этих корыстных надежд в отношении Спарты – и особенно ожидания получить через освобождённых пленных звание проксена Спарты – Алкивиад стал сторонником слепых и неоправданных филолаконских уступок Никия.
Однако вернувшиеся пленники либо не смогли, либо не захотели выполнить его желание, а власти Спарты отвергли все его предложения, не без презрительной насмешки над мыслью доверить важные политические интересы юноше, известному главным образом тщеславием, распутством и наглостью.
То, что спартанцы так решили, неудивительно, учитывая их глубокое уважение как к старости, так и к строгой дисциплине. Они естественным образом предпочли Никия и Лахета, чья осмотрительность оправдывала (если не порождала) их недоверие к новому претенденту.
К тому же Алкивиад ещё не показал всей мощи, на которую был способен. Но этот презрительный отказ спартанцев задел его так сильно, что, совершив полный переворот в своей политической линии, [65] он тут же окунулся в антилаконскую политику с энергией и умением, которых за ним прежде не замечали.
Момент был благоприятным для нового лидера, выбравшего эту сторону, особенно после недавней смерти Клеона, и стал ещё более благоприятным из-за поведения лакедемонян.
Проходили месяцы, направлялись протест за протестом, но ни одно из предписанных договором обязательств в пользу Афин так и не было выполнено.
У Алкивиада теперь были все основания изменить тон в отношении спартанцев и обвинять их как обманщиков, нарушивших свои клятвы и злоупотребивших доверием Афин.
В своём новом настроении он естественным образом обратил внимание на Аргос, где у него были влиятельные друзья и семейные связи. Положение этого города, теперь свободного после истечения срока мира со Спартой, открывало возможность союза с Афинами, и эту политику Алкивиад активно продвигал, настаивая, что Спарта обманывает афинян лишь для того, чтобы связать им руки, пока она не расправится с Аргосом поодиночке.
Этот аргумент потерял часть силы, когда Аргос приобрёл новых мощных союзников – Мантинею, Элиду и Коринф, но, с другой стороны, такие приобретения делали Аргос ещё более ценным союзником для Афин.
Однако не столько склонность к Аргосу, сколько растущий гнев против Спарты способствовал филаргийским планам Алкивиада. Когда лакедемонский посол Андромед прибыл в Афины из Беотии, предлагая афинянам лишь руины Панакта в обмен на Пилос, а также когда стало известно, что спартанцы уже заключили отдельный союз с беотийцами, не посоветовавшись с Афинами [p. 44], необузданное выражение недовольства в афинской экклесии показало Алкивиаду, что настало время для принятия решительных мер.
Пока он сам подогревал это недовольство против Спарты, он одновременно тайно известил своих сторонников в Аргосе, убеждая их, с уверенностью в успехе и обещанием своей активной поддержки, немедленно отправить посольство в Афины совместно с мантинейцами и элейцами с просьбой о принятии их в качестве союзников. Аргосцы получили это известие как раз в тот момент, когда их граждане Евстроф и Эсон вели переговоры в Спарте о возобновлении мира, будучи отправленными туда в сильном беспокойстве, что Аргос останется без союзников и будет вынужден один противостоять лакедемонянам.
Но как только перед ними открылась неожиданная возможность союза с Афинами – бывшим другом, демократией, подобной их собственной, морской державой, не вмешивающейся в их первенство в Пелопоннесе, – они перестали заботиться о Евстрофе и Эсоне и немедленно отправили в Афины предложенное посольство. Это было совместное посольство аргосцев, элейцев и мантинейцев: [66] союз между этими тремя городами уже был укреплён вторым договором, заключённым после того соглашения, в котором участвовал Коринф; но Коринф отказался от участия во втором. [67]
Однако спартанцы уже были встревожены резким отпором, данным их послу Андромеду, и, вероятно, предупреждены сообщениями от Никия и других своих афинских друзей о надвигающемся кризисе, связанном с союзом между Афинами и Аргосом. Поэтому они без промедления отправили трёх граждан, пользовавшихся большой популярностью в Афинах, [68] – Филокарида, Леонта и Эндия, – с полномочиями уладить все разногласия.
Послам было поручено отговорить Афины от союза с Аргосом, объяснить, что союз Спарты с Беотией был заключён без какого-либо злого умысла против Афин, и в то же время вновь потребовать возвращения Пилоса в обмен на разрушенный Панакт. [p. 45] Уверенность лакедемонян в силе афинского согласия была такова, что они ещё не теряли надежды добиться утверждения даже этого крайне неравного предложения. И когда трое послов, представленные и поддержанные Никием, впервые встретились с афинским советом перед выступлением перед народным собранием, впечатление, произведённое их заявлением о полномочиях на урегулирование, оказалось весьма благоприятным.











