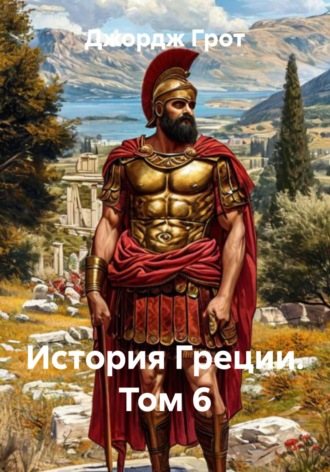
Полная версия
История Греции. Том 6
К этому времени Пердикка уже некоторое время был другом и союзником Афин; но существовали и другие македонские правители – его брат Филипп и Дерда, владевшие независимыми княжествами в верхней стране [114], по-видимому, в верховьях Аксия, близ пэонийских племен, с которыми он находился в состоянии вражды. Поскольку эти князья были приняты в качестве союзников Афин, Пердикка с того момента стал их активным врагом, и именно его интриги положили начало всем трудностям Афин на том побережье.
Афинская империя была гораздо менее прочной и надежной в отношении приморских городов на материке, чем в отношении островов [115]: первые всегда в большей или меньшей степени зависели от любого могущественного соседа по суше, иногда даже больше, чем от владычицы морей; и мы увидим, что сами Афины усердно старались заручиться расположением Ситалка и других сильных фракийских властителей как помощью для своего господства над приморскими городами [116].
Пердикка немедленно начал подстрекать и помогать халкидянам и боттиеям отложиться от Афин, а яростная вражда коринфян к последним, разожженная недавними событиями на Керкире, позволила ему распространить те же замыслы и на Потидею. Он не только отправил послов в Коринф, чтобы [стр. 69] согласовать меры для провоцирования восстания Потидеи, но и в Спарту, подстрекая Пелопоннесский союз к всеобщему объявлению войны Афинам [117]. Кроме того, он убедил многих халкидских жителей покинуть свои разрозненные небольшие города на побережье и переселиться совместно в Олинф, находившийся в нескольких стадиях от моря. Таким образом, этот город, как и халкидское влияние, значительно укрепился, а Пердикка дополнительно выделил земли близ озера Болба для временного содержания собравшегося населения.
Афиняне не оставались в неведении ни о его враждебных приготовлениях, ни об опасностях, грозивших им со стороны Коринфа после морского сражения у Керкиры; сразу после этого они отправили войска, чтобы принять меры против восстания Потидеи: потребовали от жителей снести стену со стороны Пеллены, оставив город открытым со стороны полуострова (или, можно сказать, моря) и укрепленным только со стороны материка, а также выдать заложников и отказаться от ежегодных магистратов, присылаемых из Коринфа. Афинский флот из тридцати триер и тысячи гоплитов под командованием Архестрата и десяти других стратегов, отправленный действовать против Пердикки в Термейском заливе, одновременно получил приказ обеспечить выполнение этих требований в Потидее и подавить любые настроения к мятежу среди соседних халкидян.
Получив эти требования, потидейцы немедленно отправили послов как в Афины – чтобы выиграть время и уклониться от исполнения, – так и в Спарту совместно с Коринфом, чтобы добиться вторжения лакедемонян в Аттику в случае афинской атаки на Потидею. От спартанских властей они получили четкое утвердительное обещание, несмотря на продолжавшееся тридцатилетнее перемирие; в Афинах их миссия не увенчалась успехом, и они открыто восстали (по-видимому, в середине лета 432 г. до н.э.), как раз когда отплыл флот Архестрата. Халкидяне и боттиеи восстали одновременно, по прямому наущению Коринфа, сопровождавшемуся торжественными клятвами и обещаниями помощи [118].
Архестрат со своим флотом, достигнув Термейского залива, обнаружил, что все они объявили себя врагами, но был вынужден ограничиться атакой на Пердикку в Македонии, не имея достаточных сил для разделения армии. Поэтому он осадил Терму, действуя совместно с македонскими войсками из верхней страны под командованием Филиппа и братьев Дерды; взяв этот город, он затем осадил Пидну. Но, вероятно, было бы разумнее сразу направить все силы на блокаду Потидеи: за те шесть недель, что он потратил на операции против Термы, коринфяне перебросили в Потидею подкрепление – тысячу шестьсот гоплитов и четыреста легковооруженных, частично своих граждан, частично пелопоннесских наемников, – под командованием Аристея, сына Адейманта, человека столь выдающейся популярности как в Коринфе, так и в Потидее, что большинство солдат вызвались идти за него лично. Таким образом, Потидея была приведена в состояние полной обороны вскоре после того, как весть о ее восстании достигла Афин, и задолго до того, как могла прибыть вторая армия для ее атаки.
Однако вторая армия была быстро отправлена – сорок триер и две тысячи афинских гоплитов под командованием Каллия, сына Каллиада [119], и четырех других стратегов, – которые, достигнув Термейского залива, соединились с первым отрядом у осады Пидны. После безуспешной осады они были вынуждены заключить с Пердиккой перемирие на наилучших возможных условиях, чтобы немедленно начать операции против Аристея и Потидеи. Затем они покинули Македонию, сначала переправившись морем из Пидны на восточное побережье Термейского залива, затем безуспешно атаковав город Бероя, после чего двинулись по суше вдоль восточного берега залива в направлении Потидеи. На третий день неторопливого марша они достигли порта под названием Гигон, близ которого разбили лагерь. [стр. 71] Несмотря на договор, заключенный при Пидне, Пердикка, чью вероломную натуру мы еще не раз [с. 72] будем отмечать, снова перешел на сторону халкидян и послал им на помощь двести всадников под командованием [с. 73] Иолая. Аристей разместил своих коринфян и потидейцев на перешейке близ Потидеи, организовав рынок за стенами, чтобы они не разбредались в поисках провизии. Его позиция находилась со стороны Олинфа – расположенного примерно в семи милях, но видимого благодаря возвышенному и заметному положению. Здесь он ожидал приближения афинян, рассчитывая, что халкидяне из Олинфа по условленному сигналу атакуют их с тыла, когда те нападут на него.
Однако Каллий был достаточно силен, чтобы оставить в резерве македонскую конницу и других союзников для прикрытия от Олинфа, в то время как с афинянами и основными силами он двинулся к перешейку и занял позицию напротив Аристея. В последовавшем сражении Аристей и отборный отряд коринфян, находившийся при нем, одержали полный успех, разбив противостоявшие им войска и преследуя их на значительном расстоянии. Но остальные потидейцы и пелопоннесцы были разгромлены афинянами и отброшены за стены.
Возвращаясь после преследования, Аристей обнаружил победоносных афинян между собой и Потидеей и оказался перед выбором: либо пробиваться через них в город, либо отступать к Олинфу. Он выбрал первое как наименьшее из двух зол и прорвался через фланг афинян, [с. 74] зайдя в море, чтобы обойти край потидейской стены, которая пересекала весь перешеек, с молом, выступающим с каждой стороны в воду. Он осуществил эту дерзкую операцию и спас свой отряд, хотя и не без значительных трудностей и потерь.
Тем временем вспомогательные войска из Олинфа, хотя и начали движение, увидев условный сигнал, были сдержаны македонской конницей, так что потидейцы были разбиты, а сигнал отозван еще до того, как они смогли оказать действенную помощь. Конница с обеих сторон так и не вступила в бой. Потерпевшие поражение потидейцы и коринфяне, имея город прямо за спиной, потеряли всего триста человек, тогда как афиняне – сто пятьдесят, включая стратега Каллия. [121] Однако победа была весьма полной, и афиняне, воздвигнув трофей и выдав тела врагов для погребения, немедленно начали строить осадную стену через перешеек со стороны материка, чтобы отрезать Потидею от сообщения с Олинфом и халкидянами. Для завершения блокады требовалась вторая стена через перешеек, с другой стороны – в направлении Паллены. Но у них не хватало сил выделить для этого полностью отдельный отряд, пока некоторое время спустя к ним не присоединился Формион с шестнадцатью сотнями свежих гоплитов из Афин [p. 75].
Этот полководец, высадившись в Афитах на полуострове Паллена, медленно двинулся к Потидее, опустошая территорию, чтобы выманить горожан на битву. Однако вызов не был принят, и он без помех возвел блокирующую стену со стороны Паллены, так что город оказался полностью окружен, а гавань контролировалась афинским флотом. После завершения строительства стены для её охраны хватило части сил, что позволило Формиону перейти к наступательным действиям против халкидских и боттийских поселений.
Теперь захват Потидеи был лишь вопросом времени, и Аристей, чтобы продлить запас провизии, предложил гражданам дождаться попутного ветра, погрузиться на корабли и внезапно прорваться из гавани, рискуя ускользнуть от афинского флота, оставив лишь пятьсот защитников. Хотя он сам вызвался остаться среди них, ему не удалось убедить граждан на столь смелую операцию. Тогда он с небольшим отрядом совершил вылазку, чтобы попытаться получить помощь извне – особенно поддержку или отвлечение сил со стороны Пелопоннеса. Однако ему удалось лишь провести несколько незначительных военных операций среди халкидян [122], а также успешную засаду против жителей Сермилы, что не помогло деблокировать город. Тем не менее, Потидея была так хорошо снабжена, что держалась целых два года – период, насыщенный важными событиями в других местах.
Из этих двух конфликтов между Афинами и Коринфом – сначала косвенно на Керкире, затем открыто и явно у Потидеи – возникли важные движения в лакедемонском союзе, о которых пойдет речь в следующей главе.
Глава XLVIII.
ОТ БЛОКАДЫ ПОТИДЕИ ДО КОНЦА ПЕРВОГО ГОДА ПЕЛОПОННЕССКОЙ
ВОЙН
Ы.
Еще до недавних столкновений у Керкиры и Потидеи для вдумчивых греков было очевидно, что соблюдение Тридцатилетнего мира находится под большим вопросом и что смесь ненависти, страха и восхищения, которую Афины внушали всей Греции, подтолкнет Спарту и Пелопоннесский союз использовать первый удобный случай, чтобы сокрушить афинскую мощь. То, что Спарта была именно так настроена, хорошо понимали среди союзников Афин, хотя соображения благоразумия и обычная медлительность в принятии решений могли откладывать момент реализации этих планов.
Таким образом, не только самосцы, когда подняли восстание, обратились за помощью к Пелопоннесскому союзу [p. 76], но, по-видимому, не получили ее главным образом из-за мирных интересов, которые в тот момент двигали коринфянами, – но и лесбосцы пытались начать переговоры со Спартой с той же целью, хотя власти – единственные, кому это предложение могло быть известно, поскольку оно оставалось в тайне и так и не было реализовано, – не поддержали их. [123]
Афинами в этот период управляли под влиянием Перикла, без стремления к расширению империи или ущемлению других, но с постоянным учетом вероятности войны и с заботой о том, чтобы город был готов к ней. Однако даже великолепные внутренние украшения, которые Афины тогда приобрели, вероятно, не остались без последствий, возбуждая зависть у других греков относительно их конечных целей.
Единственный известный инцидент, в котором Афины столкнулись с членом Пелопоннесского союза до конфликта вокруг Керкиры, был связан с декретом, принятым в отношении Мегары, – запрещавшим мегарцам под страхом смерти любую торговлю и общение как с Афинами, так и со всеми портами Афинской империи. Этот запрет был основан на утверждении, что мегарцы укрывали беглых афинских рабов и незаконно занимали и обрабатывали пограничные земли: частично – земли, принадлежавшие богиням Элевсина, частично – спорную территорию между двумя государствами, которая по взаимному согласию оставалась общим пастбищем без постоянных ограждений. [124]
Относительно последнего пункта [p. 77] афинский герольд Анфемокрит был отправлен в Мегару с протестом, но с ним обошлись так грубо, что его скорую смерть впоследствии приписали мегарцам как преступление. [125] Можно предположить, что после восстания Мегары четырнадцать лет назад, нанесшего Афинам непоправимый ущерб, отношения между двумя городами оставались крайне враждебными, проявляясь в разных формах, но недавние события настолько обострили их, что Афины решили отомстить. [126]
Запрет на вход в Афины и все порты их империи, включавшие почти все острова и гавани Эгейского моря, был настолько губителен для мегарцев, что они громко жаловались на это в Спарте, называя это нарушением Тридцатилетнего мира, хотя Афины, несомненно, имели законное право на такие меры – и они были даже менее суровыми, чем систематическое изгнание иностранцев в Спарте, с которым Перикл их сравнил.
Эти жалобы получили больший отклик после войны за Керкиру и блокады Потидеи афинянами. Чувства коринфян к Афинам теперь стали крайне враждебными: их двигала не только обида за прошлое, но и стремление оказать на Афины такое сильное давление, чтобы спасти Потидею и ее гарнизон от захвата.
Поэтому они немедленно начали подогревать антиафинские настроения в Спарте, убеждая спартанцев созвать всех союзников, имевших претензии к Афинам. В Спарте появились не только мегарцы, но и несколько других членов союза с обвинениями, в то время как эгинеты, чье островное положение делало их появление опасным, громко заявляли о себе через других, жалуясь, что Афины лишили их автономии, гарантированной мирным договором. [127]
Согласно лакедемонской практике, сначала сами спартанцы, отдельно от союзников, должны были решить, имеется ли достаточное основание считать, что Афины нанесли ущерб им самим или Пелопоннесу – либо нарушив тридцатилетнее перемирие, либо иным образом. Если решение Спарты было отрицательным, вопрос даже не выносился на голосование союзников; но если положительным, тогда союзники созывались, чтобы также высказать своё мнение: и если большинство голосов совпадало с предварительным решением Спарты, весь союз обязывался следовать избранной политике – если же большинство было против, Спарта оставалась одна или только с теми союзниками, которые её поддерживали. Каждый город-союзник, большой или малый, обладал равным правом голоса. Таким образом, Спарта сама не голосовала как член союза, а отдельно и индивидуально как лидер – и единственный вопрос, который выносился на обсуждение союзников, заключался в том, поддержат ли они её предварительное решение или нет. Именно такой порядок действий был соблюдён и на этот раз: коринфяне вместе с другими союзниками, чувствовавшими себя ущемлёнными или встревоженными действиями Афин, предстали перед народным собранием спартанских граждан, готовые доказать, что афиняне нарушили перемирие и продолжают наносить ущерб Пелопоннесу. [128] Даже в олигархической Спарте такой вопрос мог быть решён только общим собранием граждан, соответствующих требованиям по возрасту, регулярным взносам на общественные сисситии и подчинению спартанской дисциплине. Перед собранием, сформированным таким образом, выступили послы различных союзных городов, каждый излагая свои претензии к Афинам. Коринфяне предпочли выступить последними, после того как собрание было уже разогрето речами предыдущих ораторов.
Об этом важном собрании, от которого зависела будущая судьба Греции, Фукидид сохранил необычайно подробный отчёт. Во-первых, речь, произнесённую коринфскими послами. Затем речь афинских послов, которые в это время оказались в Спарте по другим делам и, [стр. 80] присутствуя на собрании, услышали выступления как коринфян, так и других жалобщиков, получили разрешение от магистратов выступить в свою очередь. В-третьих, обращение спартанского царя Архидама о политике, которую следует принять Спарте. Наконец, краткая, но весьма характерная речь эфора Сфенелая при постановке вопроса на голосование. Эти речи, сочинённые самим Фукидидом, в целом отражают взгляды тех, кому они приписаны: ни одна из них не является прямым ответом на предыдущую, но каждая представляет ситуацию под разным углом.
Коринфяне хорошо знали, что аудитория, к которой они обращались, была уже подготовлена в их пользу – ведь лакедемонские власти ещё до восстания Потидеи дали им и потидейцам обещание вторгнуться в Аттику. Настолько сильно изменилось настроение спартанцев с тех пор, как они отказали в помощи гораздо более мощному Лесбосу, когда тот задумал восстание – перемена, вызванная изменившимися интересами и настроениями Коринфа. Коринфяне также не могли не знать, что их конкретные претензии к Афинам в плане нарушения перемирия или нанесения ущерба были и немногочисленны, и слабы. Ни в споре о Потидее, ни о Керкире Афины не нарушили перемирия и не нанесли ущерба Пелопоннесскому союзу. В обоих случаях они столкнулись с Коринфом, действующим в одиночку, вне союза: они имели право, согласно перемирию и общепринятым нормам международного права, оказать керкирянам оборонительную помощь по их просьбе – они также имели право, согласно принципам, ранее выдвинутым самими коринфянами во время восстания Самоса, предотвратить восстание потидейцев. Они не совершили ничего, что можно было бы назвать агрессией: более того, в случае и с Потидеей, и с Керкирой агрессия явно исходила от коринфян, и Пелопоннесский союз мог быть вовлечён лишь постольку, поскольку считал себя обязанным поддерживать отдельные споры Коринфа, справедливые или нет. Всё это хорошо знали коринфские послы, и потому в своей речи [стр. 81] в Спарте они лишь слегка и в общих чертах касаются конкретных или недавних обид. Даже то, что они говорят, полностью оправдывает действия Афин в керкирском деле, поскольку они без колебаний признают намерение завладеть мощным керкирским флотом для нужд Пелопоннесского союза: что же касается Потидеи, то, если бы мы располагали только речью коринфского посла без дополнительных сведений, мы могли бы подумать, что это независимое государство, не связанное постоянными узами с Афинами – мы бы решили, что осада Потидеи афинянами была ничем не спровоцированной агрессией против автономного союзника Коринфа, [129] – нам и в голову не пришло бы, что Коринф сознательно подстрекал и поддерживал восстание как халкидян, так и потидейцев против Афин. Можно было бы утверждать, что он имел на это право в силу своих неопределённых метрополитических отношений с Потидеей: но во всяком случае, этот инцидент не давал никакого приличного предлога обвинять афинян ни в нанесении ущерба Коринфу, [130] ни в несправедливой агрессии против Пелопоннесского союза. Задерживаться на отдельных обвинениях в несправедливости не соответствовало бы цели коринфского посла; ведь против таких случаев тридцатилетнее перемирие прямо предусматривало обращение к дружественному арбитражу – к чему он, однако, ни разу не призывает. Он знал, что между Коринфом и Афинами война уже началась у Потидеи; и его задача на протяжении почти всей этой весьма выразительной речи – показать, что Пелопоннесский союз, и особенно Спарта, обязан немедленно вступить в неё, столько же из благоразумия, сколько из долга.
Он использует самые яркие выражения, чтобы изобразить честолюбие, неутомимую деятельность, личные усилия как за границей, так и дома, быстрые решения, несгибаемые надежды, не ослабляемые даже неудачами, – Афин, в противоположность осторожной, домоседской, ленивой, щепетильно рутинной Спарте. Он упрекает [стр. 82] спартанцев в их медлительности и робости, в том, что они не подавили рост Афин, пока те не достигли такой угрожающей высоты, – особенно в том, что позволили им укрепить свой город после отступления Ксеркса, а затем построить Длинные стены, соединившие город с морем. [131] Спартанцы, замечает он, единственные среди всех греков прославились системой подавления врага не действием, а промедлением, – не останавливая его рост, а сокрушая лишь тогда, когда его сила удвоилась. Ложно они снискали репутацию надёжных, тогда как на деле были просто медлительны: [132] и в сопротивлении Ксерксу, и в сопротивлении Афинам они всегда опаздывали, подводя и обрекая своих союзников на гибель, – тогда как оба эти врага не добились полного успеха лишь из-за собственных ошибок.
Слегка извинившись за резкость этих упрёков – которые, впрочем, теперь, когда спартанцы уже склонялись к немедленной войне, были уместны и даже приятны, – коринфский оратор оправдывает необходимость откровенности чрезвычайной опасностью момента и грозным характером врага, который им угрожает.
«Вы не задумываетесь (говорит он), насколько афиняне отличаются от вас. Они по природе новаторы; быстры и в замыслах, и в исполнении решённого; вы же быстры лишь в сохранении того, что имеете, не решаясь ни на что большее и делая даже меньше, чем требует крайняя необходимость. [133] Они дерзают сверх своих возможностей, идут на риск вопреки собственному расчёту и сохраняют надежду даже в безвыходных обстоятельствах; ваша же [стр. 83] особенность в том, что ваши действия не дотягивают до ваших возможностей – вы не верите даже тому, что гарантирует ваш разум, – а в трудностях отчаиваетесь найти выход. Они никогда не медлят – вы вечно отстаёте; они любят действовать за границей – вы не можете сдвинуться с места: ибо они всегда верят, что их действия принесут новую прибыль, тогда как вы боитесь, что новые начинания поставят под угрозу уже имеющееся. В случае успеха они продвигаются дальше всех; в случае поражения отступают меньше всех. Более того, они трудятся телом для своего города, будто это тела других, – тогда как их ум целиком принадлежит им самим, чтобы напряжённо служить ему. [134] Если их планы завоеваний не удаются, они чувствуют себя обворованными; но даже достигнутые приобретения кажутся им ничтожными по сравнению с тем, что ещё предстоит завоевать. Если они терпят неудачу в одном начинании, новые надежды возникают в другом месте, чтобы восполнить потерю: ведь у них одних обладание и надежда на желаемое почти одновременны, благодаря привычке быстро исполнять всё, что они однажды решили. И так они трудятся всю свою жизнь в тяготах и опасностях, пренебрегая текущими радостями в непрестанной жажде приумножения, – не зная иного праздника, кроме исполнения долга, – и считая бездеятельный покой худшим состоянием, чем утомительное занятие. Сказать правду в двух словах: такова их врождённая натура, что они не останутся в покое сами и не дадут покоя другим. [135]
Такой город противостоит вам, лакедемоняне, – а вы всё медлите… Ваши постоянные сомнения и бездействие едва ли были бы безопасны, даже если бы вы имели соседей, подобных себе по характеру; но в отношениях с Афинами ваша система устарела. В политике, как и в искусстве, современные усовершенствования неизбежно побеждают; и хотя неизменные законы лучше, если город не призван к действию, – но множество активных задач требует множества новых решений. [136] Именно благодаря этим многочисленным испытаниям средства Афин развились так сильно, в сравнении с вашими».
Коринфяне заключили свою речь словами, что если после стольких предупреждений, теперь повторённых в последний раз, Спарта всё ещё откажется защищать своих союзников от Афин, – если она замедлит выполнить своё обещание потидейцам о немедленном вторжении в Аттику, – то они, коринфяне, немедленно будут искать спасения в новом союзе и считают себя полностью вправе так поступить. Они призвали Спарту внимательно обдумать ситуацию и вести Пелопоннес вперёд с непоколебимым достоинством, как оно было передано ей предшественниками. [137]
Такова была впечатляющая картина Афин и их граждан, представленная их злейшим врагом перед народным собранием в Спарте. Она должна была воздействовать на собрание не указанием на отдельные недавние проступки, а общей системой беспринципной и бесконечной агрессии, в которой обвинялись Афины в прошлом, – а также уверенностью в том, что та же система, если не остановить её решительными мерами, будет продолжена в будущем, к полной гибели Пелопоннеса. И именно к этому пункту обратился в ответ афинский посол, находившийся в Спарте по другому вопросу и присутствовавший на собрании, после того как испросил и получил слово у властей. Афинская империя существовала уже так долго, что младшие из присутствующих не помнили обстоятельств её становления: и то, что для них было информацией, для старших служило напоминанием. [138] [стр. 85]
Он начал с того, что отверг всякое намерение защищать свой город от обвинений в конкретных преступлениях или нарушении действующего перемирия: это не входило в его задачу, да и Спарту он не считал компетентным судьёй в спорах между Афинами и Коринфом. Однако он счёл своим долгом оправдать Афины от приписываемого им общего характера несправедливости и агрессии, а также предостеречь спартанцев от политики, к которой они явно склонялись. Затем он перешёл к доказательствам, что Афинская империя была заслужена честно и по праву, – что её добровольно уступили, даже навязали Афинам, – и что они не могут от неё отказаться, не поставив под угрозу собственное существование и безопасность. Далеко не считая, что обстоятельства её приобретения требуют извинений, он с гордостью ссылался на них как на свидетельство подлинного эллинского патриотизма города, который спартанский конгресс теперь готов был низвести до уровня врага. [139]
Затем он подробно остановился на событиях, связанных с персидским вторжением, подчеркнув выдающуюся решительность и стойкость Афин, несмотря на неблагородное пренебрежение со стороны Спарты и других греков, – преобладание их флота в общем войске, – гений их стратега Фемистокла, которого хвалила даже сама Спарта, – и право Афин считаться в тот памятный момент главным спасителем Греции. Одного этого было достаточно, чтобы избавить их империю от порицания, но это было не всё, – ведь эту империю им настойчиво предложили союзники в то время, когда Спарта показала себя неспособной и нежелающей продолжать войну против Персии. [140]











