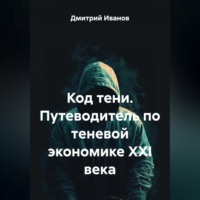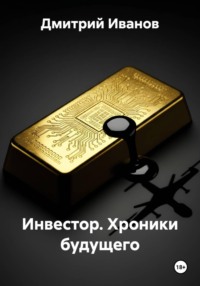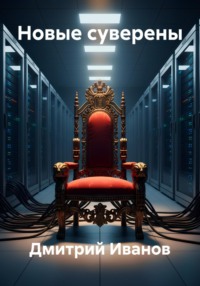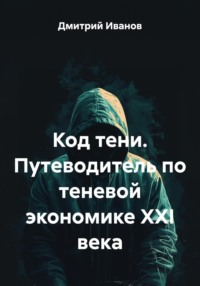Полная версия
Правда о блокчейне. Критический путеводитель по NFT, криптовалютам и иллюзиям Web3

Дмитрий Иванов
Правда о блокчейне. Критический путеводитель по NFT, криптовалютам и иллюзиям Web3
Дисклеймер
Эта книга представляет собой критический и образовательный анализ идеологии и архитектуры технологий, объединенных под общим названием Web3. Информация, изложенная в ней, призвана стимулировать критическое мышление и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией.
Цель данной книги – не уничтожить веру, а вооружить вас «инфраструктурной осознанностью»: умением задавать правильные вопросы и видеть, кто на самом деле контролирует код, данные и капитал в «децентрализованном» будущем.
Пожалуйста, примите во внимание следующее:
Не является финансовым советом: Автор не дает рекомендаций по покупке, продаже или хранению каких-либо криптовалют, токенов или других цифровых активов. Любые инвестиционные решения сопряжены с высоким риском, и вы можете потерять весь свой капитал. Всегда проводите собственное исследование (DYOR – Do Your Own Research) и консультируйтесь с лицензированными финансовыми специалистами.
Аналитический характер: Содержание книги основано на анализе общедоступной информации: технической документации, отчетов, новостных статей и публичных заявлений. Это авторская интерпретация и системный взгляд, которые могут отличаться от мнений других экспертов.
Иллюстративные примеры: Упоминание конкретных проектов, компаний или протоколов (например, Ethereum, Binance, MetaMask, Lido, Chainlink и др.) используется исключительно в иллюстративных целях для демонстрации системных проблем, уязвимостей или идеологических противоречий. Это не является обвинением или оценкой деятельности конкретной организации.
Динамичность информации: Сфера криптовалют и Web3 развивается с чрезвычайной скоростью. Технические детали, статистика и состояние проектов, описанные в книге, актуальны на момент ее написания, но могут быстро меняться.
Ответственность читателя: Читатель несет полную ответственность за собственные решения и действия, предпринятые на основе информации из этой книги или в результате ее отсутствия. Цель данного произведения – научить задавать вопросы, а не давать готовые ответы.
Часть I. Добро пожаловать в иллюзию: фасад для новичков
Глава 1. Ворота в новый мир: кто встречает вас у входа
Поздняя ночь. Комнату заливает синеватый свет монитора, на котором сменяют друг друга графики и восторженные лица YouTube-блогеров. Павел чувствует себя первооткрывателем на пороге нового континента. Последние две недели он провел в кроличьей норе, где ему настойчиво обещали революцию: «финансовую свободу», «смерть банков», «полный контроль над своими деньгами». Слова звучали как музыка, как пароль к будущему, в которое нужно успеть запрыгнуть, пока поезд не ушел. И вот он готов. Он решился. Он «входит в крипту».
На экране перед ним открыты две вкладки, два портала в этот дивный новый мир.
Первая – сайт Binance. Гладкий, выверенный дизайн, знакомый по любому современному финтех-приложению. Крупная, сочная зеленая кнопка «Регистрация». Понятные поля: «email», «пароль». Все здесь говорит о безопасности и простоте. Сервис будто подмигивает ему: «Не бойся, мы все сделали за тебя. Будет легко, как заказать пиццу». Павел знает, что дальше его попросят загрузить паспорт, но это его лишь успокаивает – «все серьезно, как в настоящем банке».
Вторая вкладка – MetaMask. Сайт встречает его странной вращающейся головой лисы и частоколом незнакомых, почти враждебных терминов: «некастодиальный кошелек», «сид-фраза», «сохраните ваш секретный ключ в надежном месте». Инструкция написана тоном сурового предупреждения: «Если вы потеряете эту фразу, ваши средства будут утрачены НАВСЕГДА. Никто. Не сможет. Вам. Помочь». Это не приглашение, это экзамен.
Выбор Павла длится не более пяти секунд. Он с облегчением закрывает вкладку с пугающей лисой. Зачем ему эта головная боль, эта личная ответственность размером с катастрофу, когда вот он, удобный и понятный сервис, который обещает тот же результат, но без риска и сложностей?
Через десять минут, привязав банковскую карту и подтвердив личность, Павел покупает свои первые 0.0001 BTC. На экране вспыхивает уведомление об успешной покупке. Он чувствует прилив гордости. Он сделал это. Он стал частью будущего. Он сам себе банк.
Вот только он еще не знает, что, сделав шаг в «децентрализованный мир» через эти сияющие ворота, он не стал сам себе банком. Он просто сменил один банк на другой – новый, модный, работающий 24/7 и, что самое главное, совершенно невидимый для регуляторов.
UX/UI дизайнер: «То, что произошло с Павлом, – это триумф дизайна над идеологией. Посмотрите на интерфейс Binance. Зеленые кнопки подтверждения, большие шрифты, прогресс-бары. Весь этот язык заимствован у традиционных финансовых институтов, чтобы создать у вас подсознательное ощущение доверия. Это называется „снижение когнитивной нагрузки“. Мы даем пользователю иллюзию контроля и безопасности, в то время как за кулисами он полностью передает этот контроль третьей стороне. Интерфейс MetaMask, наоборот, кричит об ответственности. Он честен, но его честность пугает. Централизованные биржи создали не просто удобный сервис. Они создали прекрасно спроектированную золотую клетку, в которую люди заходят добровольно, потому что снаружи сложно, страшно и нужно думать своей головой».
Специалист по финансовому надзору: «"Быть самому себе банком"… Эта фраза – маркетинговый шедевр, который разбивается о первый же документ, с которым сталкивается пользователь: „Условия использования“. Никто их не читает, а зря. Там черным по белому написано, что биржа имеет право приостановить обслуживание вашего счета по любой причине. Когда Павел прошел процедуру KYC – "Знай своего клиента", – он добровольно связал свое реальное имя и паспорт с крипто-кошельком. Это все равно что прийти на тайный маскарад и первым делом сдать свой паспорт охраннику на входе, попросив прикрепить к маске табличку с именем. Но главное даже не это. Главное – это право собственности. Павел не владеет своими 0.0001 BTC. Он владеет цифровой распиской, записью в частной базе данных Binance, которая гласит: „Мы должны Павлу 0.0001 BTC“. Сами биткоины лежат на нескольких сверхзащищенных „холодных“ кошельках, которые принадлежат бирже. Ключей от них у Павла нет. А в этом мире действует одно железное правило: „Не твои ключи – не твои монеты“. Если завтра биржа обанкротится, как это случалось десятки раз, или если ваш счет заморозят по запросу властей вашей страны, вы не сможете ничего сделать. Вы будете стоять в длинной очереди кредиторов, надеясь вернуть хотя бы часть своих „революционных“ денег, запертых в самом централизованном из всех возможных сейфов – чужом».
Итак, путь большинства, путь кажущейся простоты, оказывается ловушкой. В обмен на комфорт пользователь отдает контроль, анонимность и само право собственности – три кита, на которых якобы и стоит мир Web3.
Но что, если бы Павел оказался тем самым одним из ста? Что, если бы он, нахмурившись, взялся за установку MetaMask, записал на бумажке эти двенадцать страшных слов и шагнул через портал с лисой? Неужели тот, второй, путь ведет к настоящей децентрализации и свободе? Или это просто вход в другую, чуть более сложную, но не менее коварную иллюзию?
Представим на мгновение, что Павел – тот самый один из ста. Он отбросил искушение простоты, прочитал все предупреждения и с трепетом записал на листке бумаги двенадцать секретных слов. Он установил MetaMask. Он перевел на свой новый, только что созданный адрес свои первые 0.05 ETH. В этот момент он чувствует себя настоящим киберпанком. Вот оно. Прямое, ничем не опосредованное владение. Ключи у него, и только у него. Он – суверенная финансовая единица.
Он открывает кошелек, и тот показывает ему его баланс: 0.05 ETH. Все верно. Но как кошелек об этом узнал?
Этот простой вопрос – начало второй, куда более глубокой иллюзии. Кошелек – это не блокчейн. Это всего лишь интерфейс, красивый «пульт управления» вашими ключами. Чтобы узнать баланс, отправить транзакцию или взаимодействовать со смарт-контрактом, этому пульту нужно связаться с самой сетью Ethereum – глобальной сетью из тысяч компьютеров (узлов), хранящих копию реестра. Запускать и поддерживать собственный узел – это технически сложно и дорого, требует сотен гигабайт дискового пространства и постоянного подключения к сети. Это путь для единиц.
Павел, как и 99.9% пользователей MetaMask, не запускает свой узел. Так как же его «пульт» дозванивается до сети?
Системный архитектор / Аудитор смарт-контрактов: «Он использует посредника. По умолчанию кошелек MetaMask настроен на подключение к централизованному сервису под названием Infura. Это компания, принадлежащая гиганту индустрии ConsenSys, которая управляет огромным количеством узлов Ethereum и продает доступ к ним в качестве услуги. Когда Павел проверяет свой баланс, его кошелек отправляет запрос не в "децентрализованную сеть", а прямиком на серверы Infura. Infura обрабатывает запрос, находит в блокчейне нужную информацию и отправляет ответ обратно в кошелек Павла. По сути, Infura – это невидимый оператор колл-центра, через которого почти все "независимые" пользователи общаются с блокчейном.
Каковы последствия? Во-первых, прощай, конфиденциальность. Infura видит IP-адрес Павла и все адреса его кошельков. Он видит, какие балансы он проверяет и с какими DeFi-протоколами взаимодействует. Вся его "анонимная" активность привязана к его реальному цифровому следу. Во-вторых, это центральная точка отказа. В ноябре 2020 года у Infura произошел сбой. И что случилось? Для миллионов пользователей по всему миру "децентрализованный" интернет просто перестал работать. Биржи не могли обработать выводы средств, DeFi-сервисы показывали неверные данные, а кошельки MetaMask были бесполезны. В-третьих, это точка цензуры. Infura, будучи американской компанией, обязана соблюдать санкции. Они уже блокировали доступ пользователям из определенных регионов. Ваше "не цензурируемое" приложение не будет работать, если посредник, через которого вы к нему обращаетесь, решит вас заблокировать».
Но история на этом не заканчивается. Централизация уходит еще на один, более глубокий уровень. Где сама Infura размещает свои узлы?
Системный архитектор / Аудитор смарт-контрактов: «На облачных серверах. Как и большинство крупных игроков в этой сфере. Согласно последним отчетам, более 60% всех узлов сети Ethereum размещены у централизованных облачных провайдеров. И около 50% из этого числа – на серверах Amazon Web Services (AWS). Получается невероятная картина. Мы построили многомиллиардную "децентрализованную" финансовую систему поверх сети, значительная часть которой физически расположена в дата-центрах одной из крупнейших мировых корпораций. Это и есть та самая "цифровая утопия на серверах Amazon". Если завтра Джефф Безос по какой-то причине решит выключить все узлы Ethereum на своих серверах, вся сеть столкнется с колоссальными проблемами».
Медиакритик / Философ: «Происходит то, что можно назвать "театром децентрализации". Пользователю дают в руки атрибуты суверенитета: ключи, сид-фразу. Ему показывают сцену, на которой разыгрывается драма о свободе от корпораций и банков. Но он не знает, что сама эта сцена построена в павильоне, принадлежащем Amazon, билеты продает компания ConsenSys, а свет и звук контролируются горсткой провайдеров. Павел думает, что он стал свободным актором, но на самом деле он просто зритель, которому разрешили подержать в руках выключенный реквизит, чтобы он почувствовал себя участником представления. Фундаментальный разрыв между идеологией и инфраструктурой заложен в самом основании системы. Она не может быть по-настоящему децентрализованной, потому что она полагается на централизованную инфраструктуру существующего интернета, которую обещала заменить».
Таким образом, и «легкий» путь через биржу, и «трудный» путь через некастодиальный кошелек приводят нас в одно и то же место. Это зал ожидания, в котором вся власть сосредоточена в руках нескольких невидимых компаний-операторов. Выбор, который стоял перед Павлом, был не выбором между централизацией и децентрализацией. Это был выбор между тем, кому именно доверить свой доступ в новый мир.
Итак, оба пути, предложенные Павлу, – парадная дверь централизованной биржи и черный ход некастодиального кошелька – в конечном итоге привели его в одно и то же место: в зависимость от централизованных посредников. Выбор оказался не между свободой и несвободой, а лишь между разными видами надзирателей – явным и скрытым.
Почему так вышло? Неужели пионеры этого мира, мечтавшие о независимости, были так наивны? Или же эта ловушка была встроена в систему с самого начала?
Поведенческий психолог: «Человеческий мозг – это машина по поиску кратчайших путей и минимизации рисков. Идеология децентрализации предлагает нам абстрактную награду в будущем – свободу, контроль, приватность. Но взамен требует немедленной платы: сложности в использовании и абсолютной, пугающей личной ответственности. Потеря сид-фразы – это не как забытый пароль от почты. Это цифровой эквивалент сгорания вашего дома со всеми сбережениями внутри. Когнитивное искажение, известное как "неприятие потерь", делает страх перед такой ошибкой гораздо более сильным, чем привлекательность абстрактной свободы. Централизованные сервисы гениально эксплуатируют этот страх. Они говорят: "Не волнуйтесь, мы возьмем ваш риск на себя. Мы будем хранить ваши ключи. Мы поможем восстановить пароль". Они продают не просто удобство, они продают психологическое избавление от ответственности. И 99% людей с радостью покупают это избавление».
Но психология пользователя – это лишь одна сторона медали. Другая, куда более важная, – это экономика. Куда текут деньги? Кто платит за создание этой инфраструктуры и чего он хочет взамен?
Венчурный капиталист: «Децентрализация – это прекрасная история для презентаций. Мы ее обожаем. Она привлекает идеалистов, прессу и розничных инвесторов. Но деньги мы вкладываем не в истории. Мы вкладываем в компании, у которых есть бизнес-модель. А у по-настоящему децентрализованного протокола бизнес-модели, как правило, нет. Он просто существует.
Поэтому мы инвестируем в биржи, как Binance и Coinbase, которые берут комиссию с каждой сделки. Мы инвестируем в ConsenSys, которая продает доступ к сети через Infura. Мы инвестируем в OpenSea, централизованный маркетплейс для "децентрализованных" NFT. Мы финансируем создание централизованных "шлагбаумов" на децентрализованном шоссе. Эти компании – наши точки сбора ренты. Они и есть настоящий Web3. А вся риторика о свободе и независимости – это просто очень эффективный маркетинг для привлечения пользователей к нашим шлагбаумам. Мы не против децентрализации. Мы просто строим на ней очень централизованный и прибыльный бизнес».
Теперь картина становится полной. Вход в «децентрализованный» мир – это идеально отлаженная система, в которой психологические уязвимости пользователей идеально совпадают с экономическими интересами венчурного капитала. Пользователи ищут простоты и безопасности, а инвесторы создают централизованные сервисы, которые эту простоту продают.
В результате на первом же шаге происходит фундаментальная подмена. Вместо мира, где каждый сам себе банк, мы получаем мир, где несколько нерегулируемых техно-банков контролируют доступ для всех остальных. Вместо системы, свободной от корпораций, мы получаем систему, чья базовая инфраструктура зависит от Amazon и Google.
Идеалы децентрализации не проиграли в честной борьбе. Они были аккуратно отодвинуты в сторону как неудобные и невыгодные, оставшись лишь красивым фасадом, вывеской над входом в здание, которое построено по старым, до боли знакомым чертежам.
Можно ли построить децентрализованный дом, если фундамент для него вам продает и контролирует один-единственный застройщик?
Глава 2. NFT: император и его JPEG
Алексей с гордостью открывает свой цифровой кошелек и показывает друзьям главное сокровище своей коллекции. Это не акции и не облигации. Это картинка скучающей обезьяны в пиратской шляпе. Она обошлась ему в сумму, эквивалентную стоимости подержанного автомобиля, но Алексей не считает, что потратил деньги. Он их инвестировал.
«Понимаете, это не просто JPEG, – объясняет он с жаром проповедника, впервые нашедшего веру. – Это verifiable digital ownership. Это право собственности, навсегда записанное в блокчейне Ethereum. Никто не может это у меня отнять, подделать или скопировать. Моя обезьяна – одна из десяти тысяч, и она только моя. Это пропуск в закрытый клуб, это мой аватар в метавселенной, это актив будущего».
Его друзья видят на экране картинку, которую можно скопировать двумя кликами мыши. Алексей видит революцию. Он искренне верит, что владеет не набором пикселей, а частью цифровой истории, криптографически защищенным шедевром. Он владеет им.
Но чем именно является это «им»?
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно на время забыть о хайпе, о ценах на OpenSea и рассказах о разбогатевших художниках, и заглянуть в машинное отделение этой технологии.
Системный архитектор / Аудитор смарт-контрактов: «Давайте я переведу с маркетингового на технический. Алексей не купил картинку. Он заплатил майнерам сети Ethereum значительную комиссию, чтобы те записали в глобальную базу данных – блокчейн – одну-единственную строчку. Эта строчка говорит примерно следующее: "Адрес кошелька Алексея 0x123… теперь ассоциирован с токеном номер #4104 в рамках смарт-контракта 0xABC…". Всё. Это и есть NFT – Non-Fungible Token, невзаимозаменяемый токен. Это просто запись в реестре.
А где же сама картинка обезьяны? В 99% случаев – не в блокчейне. Хранить даже один мегабайт данных в блокчейне Ethereum стоит целое состояние. Поэтому разработчики идут на хитрость. Внутри смарт-контракта, рядом с записью о владении, они помещают еще кое-что – ссылку. URL-адрес. Этот URL ведет к метаданным токена – обычно это небольшой текстовый JSON-файл, в котором описаны свойства NFT ("шляпа: пиратская", "фон: синий") и, самое главное, содержится еще одна ссылка. Уже на сам медиафайл: на тот самый JPEG с обезьяной.
Так что Алексей купил не цифровой шедевр. Он купил запись в реестре, которая содержит ссылку на файл, который содержит ссылку на картинку».
Эта техническая деталь полностью меняет картину. Право собственности, которое так ценит Алексей, оказывается не правом на сам актив, а правом на указатель, на табличку с адресом. А долговечность и ценность этого права теперь полностью зависят от того, куда ведет эта ссылка.
Системный архитектор / Аудитор смарт-контрактов: «И вот здесь начинается самое интересное. Куда может вести эта ссылка? Вариантов несколько.
Худший случай: На обычный сервер компании, которая выпустила NFT. Это может быть папка в Amazon Web Services или Google Cloud. Если эта компания завтра обанкротится, решит сэкономить на хостинге или просто забудет продлить домен – сервер отключается, и ссылка начинает вести в никуда. В кошельке Алексея по-прежнему будет его токен #4104, но вместо обезьяны он будет видеть ошибку 404. Его "вечный" актив испарился.
Случай получше: На IPFS, InterPlanetary File System. Это децентрализованная система хранения файлов. Звучит хорошо, но и здесь есть нюанс. Чтобы файл оставался доступным в IPFS, кто-то должен быть заинтересован в его хранении и "закреплении" (pinning). Обычно это делает все та же компания-создатель. Если она перестает за это платить, файл со временем может исчезнуть из сети.
Идеальный, но крайне редкий случай: Картинка хранится "on-chain", то есть ее код полностью записан в самом блокчейне. Таких проектов единицы, потому что это безумно дорого, и обычно речь идет о примитивных, сгенерированных кодом пиксельных изображениях.
Подавляющее большинство многомиллионных NFT-коллекций, включая самые известные, используют первый или второй вариант. Они продают вам криптографически защищенную квитанцию, но сам товар оставляют лежать на складе, за аренду которого может перестать платить кто угодно».
Таким образом, «неизменяемое право собственности», которым так гордится Алексей, на деле оказывается правом на очень хрупкую конструкцию. Он владеет ключом от банковской ячейки, но банк в любой момент может снести здание, в котором эта ячейка находится.
Хорошо. Мы установили, что NFT – это, по сути, хрупкая ссылка. Но если техническая основа настолько шаткая, почему за эти квитанции платят миллионы? Почему Алексей и тысячи таких, как он, готовы рисковать состоянием ради картинки с обезьяной?
Ответ лежит не в технологии, а в психологии. Система NFT гениально эксплуатирует не блокчейн, а человеческую потребность в статусе и принадлежности.
Поведенческий психолог: «Алексей купил не JPEG, он купил билет в элитный клуб. NFT-коллекции вроде Bored Ape Yacht Club – это первые в мире "цифровые загородные клубы". Ваша "обезьяна" – это не просто аватар, это доказуемое членство. Она дает доступ в закрытые Discord-каналы и на эксклюзивные вечеринки, где вы можете встретить знаменитостей. Это чистый социальный "сигналинг". В реальном мире вы демонстрируете статус с помощью часов Rolex или дорогого автомобиля. В цифровом мире вы делаете это с помощью NFT.
Более того, система создает мощнейший эффект общности. Ритуал "минтинга", общий язык ("WAGMI", "HODL", "looks rare"), совместная радость от роста цены и совместное горе от ее падения – все это превращает группу инвесторов в квази-религиозное племя. Они не просто владеют активом, они "верят в проект". Эта вера заставляет их игнорировать технические уязвимости. Никто не хочет спрашивать, где хранится картинка, когда все вокруг кричат "На Луну!". Это социальный механизм, отключающий критическое мышление».
Однако одной психологии недостаточно, чтобы поддерживать рынок стоимостью в миллиарды долларов. Здесь в игру вступают механизмы, которые имеют мало общего с коллекционированием и много – с манипуляцией рынком.
Экономист-традиционалист: «Рынок NFT – это мечта любого биржевого спекулянта из 1920-х годов. Он анонимен, нерегулируем и непрозрачен. Это создает идеальные условия для практики, известной как "wash trading" или "фиктивная торговля". Это когда один и тот же человек или группа лиц, используя разные кошельки, продают актив сами себе, каждый раз повышая цену. Для внешнего наблюдателя на маркетплейсе вроде OpenSea это выглядит как органический рост спроса: "Смотрите, эта обезьяна была продана за 10 ETH, потом за 20, а теперь за 50!".
Эта фиктивная история торгов создает иллюзию ценности и привлекает реальных покупателей, вроде Алексея, которые видят "тренд" и боятся упустить выгоду (FOMO). Они покупают актив по искусственно завышенной цене, после чего манипуляторы продают им свои оставшиеся NFT и выходят с реальной прибылью. По некоторым оценкам, значительная часть всего объема торгов на NFT-рынках в период пикового хайпа имела признаки фиктивной. Это не рынок искусства. Это казино, где некоторые игроки могут видеть карты друг друга».
Техническая хрупкость, помноженная на психологические триггеры и рыночные манипуляции. Кто же стоит за созданием таких систем? Художники, мечтающие о свободе? Или кто-то с более прагматичным взглядом на вещи?
Венчурный капиталист: «Для нас NFT – это не искусство. Это блестящий механизм для привлечения ликвидности и создания рынка из ничего. Поймите нашу бизнес-модель. Мы входим в проект на ранней стадии, получаем доступ к "белому списку" и минтим сотни самых редких NFT за бесценок. Затем мы выделяем бюджет на маркетинг: нанимаем инфлюенсеров в Twitter, платим знаменитостям, чтобы те поставили нашу картинку на аватар. Мы сами создаем первичный ажиотаж и разгоняем цены с помощью фиктивных торгов. А когда в игру вступает розничный инвестор, привлеченный хайпом, мы начинаем медленно продавать ему наши активы. Мы не коллекционеры. Мы – создатели рынка. Технология NFT создала не новую форму искусства, а новую, невероятно эффективную форму спекулятивного финансового актива, который можно создать из воздуха, раскрутить и продать массам до того, как они поймут, что именно купили».
Таким образом, то, что Алексей считает революцией в цифровом владении, на самом деле является многослойной конструкцией. На видимом уровне – искусство и сообщество. На техническом уровне – хрупкая ссылка на чужой сервер. А на финансовом уровне – нерегулируемое казино, спроектированное инсайдерами для извлечения прибыли из последней волны инвесторов.