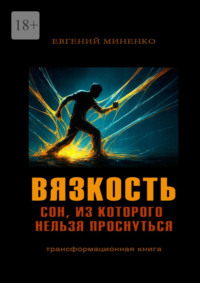Полная версия
Бистовость. Рождение целого

Бистовость. Рождение целого
Евгений Васильевич Миненко
Иллюстратор Евгений Васильевич Миненко
Дизайнер обложки Евгений Васильевич Миненко
© Евгений Васильевич Миненко, 2025
© Евгений Васильевич Миненко, иллюстрации, 2025
© Евгений Васильевич Миненко, дизайн обложки, 2025
ISBN 978-5-0068-0439-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Вступление. Слово-зов
Мир не держится. Ты это знаешь – даже если молчал об этом всю жизнь. Снаружи он блестит: города стоят, люди работают, слова звучат. Но внутри всё трещит. Ты чувствуешь, как будто сама ткань жизни изношена, как будто по ней прошлись ржавчиной. Ты смотришь на людей и видишь, что они живут разорванные: одни вечно в голове, другие захлебнулись в чувствах, третьи бегут от боли в силу, которая ломает их же. И ты понимаешь – это не про «них». Это про тебя.
Дух твой улетел. Он любит ясность, но он давно потерял землю. Он рассеивается, как дым: красивые мысли, высокие идеи, всё правильно, всё чисто – но в этом нет жизни. Ты говорил о смысле, когда рядом человеку нужна была вода. Ты говорил о высшем, когда сердце женщины рядом рвалось от простого голода быть услышанной. Ты бежал в небо, потому что боялся прикоснуться к грязи земли.
Сердце твоё кричит. Оно истекало кровью, когда ты называл это любовью. Ты отдавал себя, пока не оставалось ничего. Ты путал жалость с нежностью, зависимость с любовью. Ты верил, что быть мягким – значит быть настоящим, и позволял миру ходить по тебе ногами. Ты был открыт до такой степени, что любой ветер ломал тебя. И ты называл это добротой, когда это было страхом сказать «нет».
Зверь твой рвётся. Ты прятал его, стыдился его, называл грехом или тенью. Но он жил – в похоти, в агрессии, в жадности, в твоих срывах, когда ты ночью ел до боли, когда ты кричал на детей, когда ты рвал и рушил то, что любил. Он хотел жить. Он хотел держать твою землю. Но ты держал его в клетке – пока он не ломал решётку и не рвал тебя самого.
Ты жил так, как живут все. Разорванный. Ты называл это «нормальным». Ты говорил: «так у всех». Но это ложь. Ты знаешь: так жить нельзя.
И вот однажды – в тишине, где у тебя уже не осталось сил защищаться, пришло слово. Ты его не ждал. Ты его не звал. Оно само вошло в тебя, как удар, как рычание, как рвущаяся дверь.
«Бистовость».
Слово грубое, шероховатое, не для книжек и не для проповедей. Оно пахнет сырой землёй после дождя и железом на языке. Оно дышит так, как дышит зверь внизу живота, когда ты наконец перестаёшь его глушить. Оно не просит. Оно зовёт.
Это зов к встрече с тем, от чего ты всегда отворачивался. С тем, что пугает и стыдит, но что всегда было твоим. Сила, которой ты боялся. Сердце, которого ты прятал. Дух, которому ты не доверял.
Это слово не объяснить. Его можно только прожить. Оно приходит как дверь, за которой – тьма. И вопрос звучит не умом, а телом, прямо в кости:
«Готов ли ты войти? Готов ли ты встретиться со своей силой и стать целым?»
Потому что если не готов – дальше можно не читать. Эта книга не о том, как найти утешение. Она о том, как умереть прежним и ожить целым.
И сейчас – твой шаг.
Книга I. Разрыв
Глава 1. Дух, который улетел
Он рано понял, что наверху безопаснее.
Там холодно, но ровно.
Там всё видно.
Там не пахнет кровью.
Он научился подниматься мыслью, как воздушным змеем: длинная нитка слов – и вот уже ветер держит, небо гладит, земля уходит вниз. Там нет липких рук, нет чужих слёз, нет горячего дыхания, от которого становится тесно в груди. Там есть ясность – чистая, прозрачная, как стекло. Он полюбил её больше, чем людей.
Разговор с близким начался с простого: «Мне больно».
Он слушал и кивал. Он умел слушать. Он был внимателен, как хирург.
Он аккуратно раскладывал боль на части: причина – следствие, искажённое ожидание – вторичная выгода, детская матрица – взрослый сценарий.
Он говорил правильно. Он был прав.
Она молчала. Её глаза пустели по мере того, как его слова становились точнее.
Она пришла не за разбором, а за водой.
Он принёс схему.
Он закончил фразой, отточенной за годы: «Посмотри на это со стороны».
Она посмотрела – на него – со стороны. И ушла.
Он остался с ясностью.
И с пустотой.
Он был прав.
Она ушла.
Он победил.
Он проиграл.
Он любил споры. Не ради ссоры – ради чистоты.
Когда логика сходилась, он чувствовал странное тепло – не в груди, выше, где-то под кожей лба.
В тот день он «закрыл» тему, которую тянули месяц: аккуратно, почти нежно, без грубости.
Собеседник замолчал. Комната притихла, кто-то хмыкнул: «Ну да, всё по полочкам».
Он кивнул, сел, посмотрел в окно. Ему хотелось крикнуть, но не на кого.
Он убил вопрос.
И потерял ответ.
Тело жило отдельно.
Стул знал его лучше, чем он сам: куда подставить ребро, где держать таз, как прижать лопатки, чтобы не дрожали плечи.
Он просиживал часы, почти не мигая.
Руки печатали, голова думала, рот говорил – тело терпело.
Голод он называл «инерцией до обеда».
Тошноту – «перевозбуждением нервной системы».
Сон – «переключением режима».
Однажды врач, улыбаясь, сказал: «Стресс».
Он улыбнулся в ответ: «Контролирую».
Он жил сверху шеи.
Ниже – склад для переноса головы.
Так он устроил свой личный рай. Рай без земли.
Ни грязи, ни крови. Никаких липких просьб. Никаких «останься».
Только высота, дистанция, чистые линии мысли.
Он называл это зрелостью. Он называл это духовностью. Он называл это видением.
Правда была проще.
Он боялся прикосновения.
Боялся запаха чужой кожи.
Боялся слёз, которые нельзя остановить формулой.
Боялся собственного зверя, который внизу гудел и требовал жить.
И он выбрал небо. Потому что там не надо доверять.
Ни телу. Ни сердцу. Ни земле. Ни людям.
Дух без доверия – сквозняк.
Он продувает, но не греет.
Он видит, но не держит.
Корни этого – не в философии.
Детство пахло супом и усталостью. Голоса говорили громко, но мимо.
Когда ему было страшно, ему объясняли.
Когда ему было одиноко, с ним спорили.
Когда он тянулся к теплой ладони, ему давали понять: «Стань умнее – не будет так больно».
Он стал.
Умнее – значит выше.
Выше – значит дальше от того, что рвёт.
Он дал себе клятву – не словами, кожей: «Я выживу ясностью. Я не попрошу. Я не упаду».
И всякий раз, когда внутри что-то стонало, он поднимался наверх.
Он спасался правотой, как другими – алкоголем.
Его вера была проста: если всё объяснить, боль исчезнет.
Боль не исчезала.
Она замерзала.
Он писал тексты. Правильные.
Каждое слово – словно иконка чистоты.
Люди лайкали. Люди благодарили. Люди спорили – а он мягко и безупречно разъяснял им их ошибки.
Вечером он пил воду и долго смотрел в стену.
Слова были как снег: белые, ровные, падают – и ничего не меняют.
Он знал, почему людям плохо.
Он не знал, как держать их руку.
Однажды он снова сидел на кухне. Ночь.
Телефон мигал сообщением: «Ты где? Мне плохо. Просто побудь».
Он написал: «Дыши глубже. Поставь ноги на пол. Почувствуй опору. Различи эмоцию. Не отождествляйся».
Поставил точку.
Выключил звук.
С утра узнал, что она всю ночь плакала одна.
Ему стало стыдно. Стыд – тоже сверху шеи. Он умел его переносить.
Он написал ещё один текст – о личных границах и ответственности каждого за себя.
Его дух был чист, как стекло.
В его сердце было пусто, как в неотапливаемом доме.
Он думал, что ясность – сила.
Но это была только защита.
Стенка из слов.
Полированный щит, которым удобнее всего закрываться от живых.
Сила – это держать, когда рядом человек дышит часто и неровно, и у тебя нет правильного ответа, есть только ладонь, которую надо положить ему на спину, и быть, пока его дыхание не станет тише.
Сила – это не «объяснить любовь», а остаться, когда она больна.
Сила – это не «знать», а доверять. Земле. Теплу. Тому самому гулу внизу живота, который говорит: «Я здесь. Я выдержу. Мы выдержим».
Он не доверял.
Он управлял.
В редкие минуты, когда голова уставала раньше, чем стул, он слышал внизу тот низкий гул. Он называл его усталостью, тревогой, сбоем. Он пугался – и поднимался ещё выше, в тонкие формулы, в хорошую речь, в чистые выводы.
Правда была рядом, простая, как хлеб:
он не доверял своей земле.
он не доверял своему сердцу.
он не доверял своему зверю.
Земля – потому что грязь.
Сердце – потому что боль.
Зверь – потому что стыд.
И вот он – лётчик без взлётной полосы.
Пилот, который боится грунта настолько, что забывает: топливо не бесконечно.
Однажды любое небо кончается. И ты падаешь не потому, что мир злой, а потому, что нигде не научился касаться земли.
Самая страшная правда не в том, что он был холодным.
Самая страшная правда – в трусости, переодетой в мудрость.
В нежелании пачкать руки жизнью, переименованном в «чистоту».
В страхе быть рядом, переименованном в «уважение к границам».
В бегстве от боли, переименованном в «понимание процессов».
Он не был злым.
Он был далёким.
А далёкость – это форма насилия, когда её выдаёшь за любовь.
Той зимой у него случилось «пробуждение по расписанию»: очередной курс, очередная ретроспектива, очередной список инсайтов. Он вышел в мороз, вдохнул, и в горле хрустнул сухой воздух. Впервые он не поднялся. Он сел на ступени и положил ладони на колени.
Холод был честнее его слов.
Камень под ладонями ответил телом.
Где-то внизу, очень тихо, прокатился тот самый гул – не как сигнал тревоги, а как звук жизни в земле.
Он закрыл глаза. И вдруг понял: его «дух» – это только половина. И она не держит.
Он увидел себя со стороны: голова – как светильник; сердце – как уголь, давно остывший; тело – как кресло.
И ещё увидел: пока он «сверху» обсуждает, «снизу» кто-то давно ждёт, чтобы его перестали стыдить и позвали домой.
Он прошептал: «Я не знаю как. Но я готов слушать».
Это было его первое доверие за много лет – не идее, не учителю, не плану, а тому, что живёт ниже слов.
С тех пор ничего не стало «лучше».
Стало правдивее.
В разговорах он чаще молчал.
Там, где раньше торжествовали формулы, он вдруг спрашивал: «Ты хочешь, чтобы я был рядом, или хочешь, чтобы я объяснил?»
Иногда слышал: «Просто побудь». И оставался.
Иногда слышал: «Скажи, как быть». И говорил – но уже не из гордыни чистоты, а как из печи, где есть жар: медленнее, короче, без удовольствия победителя.
Тело ещё долго приходилось возвращать домой.
Ложиться на пол, класть ладони на живот, дышать вниз, слышать, как поднимается и опускается теплая тяжесть.
Ему было страшно.
Страшно доверять земле, потому что в детстве земля пахла супом и обидой.
Страшно доверять сердцу, потому что оно помнит, как на него наступали.
Страшно доверять зверю, потому что он видел, что зверь делает, когда его сажают в клетку.
И всё равно – он остался.
Это – не победа.
Это – начало падения на землю, которой он всю жизнь боялся.
Падения – как посадки.
Падения – как возвращения.
Дух, который улетел, умеет видеть далеко.
Но пока он не научится касаться – видение будет холодным, как утренний иней. Красиво. Мёртво.
Ему предстоит узнать: ясность – не в высоте, а в соприкосновении.
Не глаза очищают слово, а ладонь, которой ты касаешься живого.
Не формула даёт опору, а тёплая тяжесть внизу, когда ты наконец перестаёшь стыдить своё «низко» и зовёшь его в дом.
Только там, где дух доверяет земле, а земля доверяет духу, появляется то, что можно назвать осью.
Не идеей.
Тело-осью.
Жизнью, которая держит.
Итог: он видел много – и не держал ничего.
Пока не признал: видеть – мало.
Надо касаться.
Надо доверять.
И только тогда ясность перестаёт быть сквозняком и становится дыханием дома.
Глава 2. Сердце, которое тонет
Его сердце было тёплым и щедрым.
Слишком тёплым. Слишком щедрым.
Как открытая печь без дверцы: греет всех, кроме дома, в котором стоит.
Он привык называть это любовью.
Правда была проще: он боялся, что без бесконечной отдачи его не оставят.
Сцена первая. Спасти там, где не просили.
Поздний вечер. Сообщение: «тяжело».
Он не спрашивает «что тебе нужно?». Он уже знает.
Он едет через город, покупает еду, лекарства, раздаёт советы, меняет лампочку, разбирает полку, слушает, кивает.
«Ты ангел», – говорит она, уставшая и благодарная.
Он улыбается, но внутри – пусто и сладко: его нуждаются.
Ночью он пишет ещё: «держись», «ты справишься», «я тут».
Она засыпает. Он остаётся.
В три утра он ловит себя на мысли: «если я уйду, всё развалится».
Он не замечает, что в этой мысли – не любовь, а страх.
Ему страшно, что без его тепла этот мир не выберет его.
Утром она смеётся с подругой в телефоне.
Он моет её чашки на её кухне.
Его тепло работает за двоих.
Его дом – пустой.
Он уезжает и не понимает, почему злится.
Он «спас», а почему-то хочется кричать.
Потому что в глубине он хотел не спасать, а быть выбранным.
Его жест был про любовь, а его нужда – про страх одиночества.
Это не одно и то же.
Сцена вторая. Просыпаться пустым.
Есть утро, когда тело тяжелее, чем одеяло.
Глаза открыты, грудь холодная, как будто ночью кто-то снял крышку с печи.
Телефон горит зелёными отметками: «ты лучший», «без тебя бы не справилась», «спасибо, что ты есть».
Он читает – и не чувствует ничего.
Потому что благодарность не возвращает то, что он отдал без меры.
Он идёт на кухню. Чайник гудит. Руки дрожат еле-еле.
Это дрожь не от холода.
Это дрожь человека, который всю ночь держал чужую жизнь, потому что не верит, что та выживет сама.
Он не назовёт это контролем. Он назовёт это любовью.
Он садится на стул и понимает обидную вещь:
добро без границы превращается в утечку.
Ты думаешь, что согреваешь мир; на самом деле ты оставляешь свой дом без огня.
Сцена третья. Невозможность сказать «нет».
«Сможешь?» – спрашивают на работе, сдвигая сроки.
«Конечно», – отвечает он на автомате.
Внутри вспыхивает протест, как искра под кожей. Он его глотает.
«Ты же всегда выручаешь», – улыбаются.
Ему приятно и больно одновременно.
Его сердце говорит «да», чтобы его не перестали считать хорошим.
Дома просят ещё.
«Забери», «заедь», «подмени», «останься».
Он снова «да», хотя тело уже просит лечь.
Вечером он ненавидит тех, кому сказал «да».
Ненависть – это язык сердца, которое вынуждают работать против себя.
Но вынуждают не они. Он сам.
Он выбирает любовь без границы – и получает обиду вместо близости.
В какой-то момент он взрывается: резкие слова, громкая дверь, тишина.
Потом – вина.
Круг замыкается: «я ужасный», «надо быть мягче», «в следующий раз постараюсь».
И в следующий раз он снова скажет «да», потому что больше всего на свете боится потерять любовь.
И снова будет злиться, потому что его «да» было предательством себя.
Самая больная правда не в том, что он добрый.
Самая больная правда – в жалости, переодетой в любовь.
Жалость смотрит на другого снизу-вверх наоборот:
«ты маленький, ты не справишься, возьми мою жизнь, я понесу твою».
Жалость делает из другого слабого, чтобы самому быть нужным.
Жалость красива на словах и разрушительна на деле.
Любовь делает по-другому:
она видит силу в другом и не крадёт у него путь.
Любовь остаётся рядом, но не подменяет чужие ноги своими.
Любовь даёт тепло, а не собственную кровь.
Ему тяжело признать: часть его заботы – это попытка управлять миром, чтобы не остаться одному.
Пока он «спасает», никто не уйдёт – ведь без него не справятся.
Он держит людей теплом, как верёвкой.
Он называет это служением.
А по правде – это страх: «если я стану просто собой, меня не выберут».
Откуда это взялось – он знает.
Когда он был ребёнком, в доме было много усталости и мало простого тепла.
Его заметили, когда он был полезен: «умный мальчик», «добрый сын», «золотой».
Он рано понял обмен: «дай – и будешь нужен; перестанешь давать – перестанешь быть».
Это на языке тела звучит так: «чтобы меня любили, меня должно быть меньше».
И он стал меньше – каждый раз, когда говорил «да» себе в ущерб.
В этом нет злодеяния.
Есть привычка выживания: раствориться, чтобы тебя не бросили.
Есть вера, что «нет» = потеря любви.
Есть потеря доверия к людям и к жизни: «если я отпущу, всё развалится».
Но любовь без доверия – это не любовь.
Это страх, который постоянно просит подтверждений: «скажи, что я нужен», «скажи ещё раз», «ещё раз».
А подтверждения не греют. Они изнашивают сердце, как бег по кругу.
Однажды он услышал от той, кому помогал годами:
«Ты меня любишь, когда мне плохо. Когда мне хорошо, я тебе не нужна».
Его перекосило от обиды: «как ты можешь? Я для тебя…»
Она молчала.
И впервые он увидел – не её неблагодарность, а свою тайную жадность.
Ему было легче быть рядом, когда её мир рушится: там он незаменим.
Ему было сложнее быть рядом, когда ей хорошо: там он просто человек.
Это удар.
Но этот удар честный.
Он показывает яму, которую он выкапывал сам: зависимость от собственной нужности.
Ночь. Он сидит на полу у кровати. Ладони на груди.
Грудь тёплая, но тепло уходит через кожу, как вода через трещину.
Он дыханием пытается закрыть эту трещину, как ладонью – ливень.
Не выходит.
Он шепчет: «Я хочу любить иначе. Я хочу любить, оставаясь».
Слова звучат простые, но тело не верит.
Тело помнит сделки: «или ты – или тебя любят».
Чтобы что-то изменилось, нужно не обещание. Нужно доверие.
Он кладёт ладонь на солнечное сплетение, другую – на низ живота.
Вдох – сверху вниз: голова, грудь, живот.
Выдох – снизу вверх: живот, грудь, затылок.
Так несколько раз.
Тепло начинает оставаться внутри. Не всё. Но часть.
Он впервые чувствует: «я могу дать и не потерять себя целиком».
Это маленькое, но настоящее чудо.
Не небесное – земное.
Утро.
Просьба прилетает привычно: «подмени, выручи, спасай».
Его рот хочет сказать «да».
Его живот тяжелеет, как камень: «нет».
Он слышит оба голоса сразу.
И впервые выбирает тот, который из глубины.
«Я не смогу».
Пауза. Холодная. Страшная. Честная.
На том конце – раздражение, упрёки, молчание.
Его ладони мокрые. Сердце часто. Внутри всё хочет вернуть привычное «да», чтобы стало тихо.
Он остаётся.
Это не жестокость. Это уважение к себе и к тому человеку: у него есть своя сила, у него есть право встретиться со своим путём.
Проходит день – и мир не развалился.
Проходит другой – и тот человек нашёл решение без него.
Его сердце не стало камнем. Оно стало сосредоточенней. Тепло перестало вытекать.
Он понял простую вещь: «нет» – это тоже любовь, когда оно сказано без презрения и без мести.
«Нет» – это дверца печи, без которой пламя гаснет.
Он начинает различать жалость и любовь.
Жалость говорит: «отойди, я сделаю за тебя».
Любовь говорит: «я рядом, а ты сделаешь сам».
Жалость делает маленьким того, к кому тянется.
Любовь делает его больше.
Жалость тянет тепло из груди и разливает его по полу.
Любовь разжигает очаг внутри, чтобы хватило и себе, и тому, кто сел рядом.
Жалость не доверяет. Ни другому, ни жизни.
Любовь доверяет: и его силе, и земле, и тому, что на чужой дороге уже есть опоры, которых ты не видишь.
Он начинает выбирать любовь.
Ещё долго он ошибается.
Иногда снова говорит «да» из страха.
Иногда подсовывает советы вместо присутствия.
Иногда ловит себя на сладком чувстве собственной незаменимости – и отбирает руку у себя, как у ребёнка, потянувшегося к горячему.
Но что-то уже не исчезает:
в глубине у него горит ровный огонь, который не пылает и не тухнет.
Он учится ставить на него кастрюли близких, но не бросать туда себя.
Он учится сидеть рядом, когда человеку плохо, и не подменять его дыхание своим.
Он учится говорить простые слова: «я с тобой», «хочешь – обниму», «нет – это тоже любовь».
И сердце перестаёт тонуть.
Оно встаёт на ноги.
Если сказать это до хруста честно, то правда такая:
мы часто называем любовью то, что делаем от страха.
Мы раздаём себя, чтобы нас не бросили.
Мы спасаем, чтобы нас не забыли.
Мы соглашаемся, чтобы нас не ненавидели.
И исчезаем – называя это добротой.
Любовь не требует твоего исчезновения.
Любовь требует твоего присутствия.
Присутствия – значит: я здесь, я целый, у меня есть «да» и у меня есть «нет», у меня есть тепло – и я умею держать его дома.
Присутствия – значит доверия: я верю, что другой не сломается, если я перестану быть «всем для него».
Присутствия – значит уважения к своей дороге и к чужой.
И когда это случается, сердце перестаёт быть дырой, через которую выходит жизнь.
Оно становится очагом.
В нём жар – для себя и для тех, кто рядом.
Итог: раньше он любил и исчезал.
Теперь он любит – и остаётся.
Он не меньше даёт – он перестал отдавать себя целиком.
Его «нет» перестало быть предательством.
Его «да» перестало быть сделкой.
Его сердце перестало тонуть, потому что научилось доверять: себе, другому, земле, жизни.
Глава 3. Зверь, который рвётся
Он живёт внизу.
Не в облаках, не в груди – там, где тянет землю, где кости гремят, где живот знает правду раньше головы.
Он не просит, он не умоляет, он не молчит. Он гудит.
Зверь в тебе всегда гудит. Даже тогда, когда ты называешь его по-другому: аппетит, возбуждение, азарт, злость.
Ты можешь притворяться, что его нет. Но каждый раз, когда ты глотаешь больше, чем нужно, берёшь жаднее, чем хотел, кричишь резче, чем думал, – это он.
Первая сцена. Вспышка ярости.
Он терпел. Долго. Часами.
Слова били его по лицу, как мелкие камешки.
Он улыбался, кивал, делал вид, что держит.
Но внутри зверь царапал стенки.
Плечи дрожали. Челюсти сводило.
И вот – слом.
Крик. Такой, что стены дрогнули.
Кулак ударил по столу – гул отозвался в груди.
Он даже не хотел бить. Но тело взорвалось раньше мысли.
Молчание после крика страшнее самого крика.
Она смотрела на него глазами, полными ужаса.
Он хотел сказать: «Это не я».
Но это был он.
И он знал: в этом крике больше правды, чем во всех его прежних улыбках.
Правда была в том, что он не выдержал притворства.
Правда была в том, что в нём всегда есть сила, которая хочет жить.
Правда была в том, что он боится этой силы больше, чем чужого ужаса.
Вторая сцена. Тайное переедание.
Ночь.
Холодильник щёлкнул лампочкой.
Он ел – быстро, жадно, без вкуса. Хлеб с мясом, сыр с майонезом, сладкое поверх.
Не потому что голоден. Потому что внутри пустота ревела, и только еда могла её на минуту заглушить.
Он ел, пока не стало больно.
Живот ныл, пот катился по спине, пальцы липли.
Он стоял, облокотившись о дверцу, и чувствовал не сытость, а стыд.
Стыд липкий, как жир на пальцах.
«Опять», – шептал он.
Зверь насытился телом, но голод в глубине только рос.
Третья сцена. Похоть.
Женское тело рядом. Запах кожи, дыхание, тепло.
Он хотел её не ради неё. Он хотел её, чтобы заткнуть дыру в себе.
Он брал быстро, жёстко, без внимания.
В момент вспышки он чувствовал силу, будто море рвало берег.
А потом – вина.
Она лежала рядом, отвернувшись.
Он смотрел в потолок, слышал гул крови в ушах.
Силы было слишком много. Она не несла ни радости, ни близости.
Она ломала его же самого.
Четвёртая сцена. Азарт.
Карты.
Ставки.
Кубики.
Он чувствовал, как внутри зверь облизывается.
Не деньги были важны. Важен был вкус риска.
Жажда сорвать, урвать, победить.