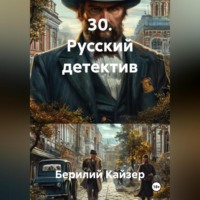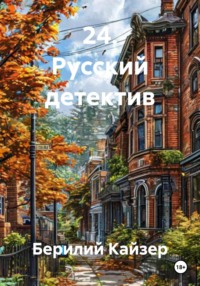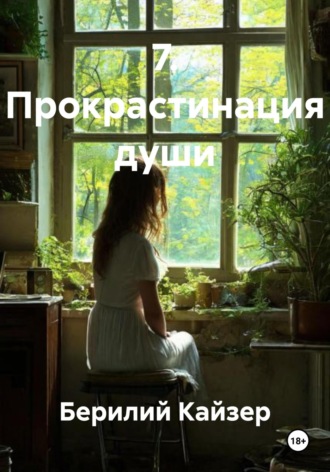
Полная версия
7. Прокрастинация души

Берилий Кайзер
7. Прокрастинация души
Глава 1: Утреннее бездействие
Пыль.
Мириады микроскопических вселенных, состоящих из отмершей кожи, ворсинок одеяла, песчинок, занесенных с улицы на подошвах ботинок, пыльцы неведомых растений. Они плясали в луче холодного сентябрьского солнца, выхваченные из полумрака комнаты, как актеры на сцене, освещенной прицельным прожектором. Медленный, бессмысленный, величественный балет частиц, обреченных на вечное парение между кроватью и потолком.
Чешка пятый час наблюдала за этим танцем. Пятый. Черт возьми. Час.
Ее сознание, замутненное липкой паутиной не сна и не яви, фиксировало каждое движение, каждую спираль, которую описывала пылинка, прежде чем исчезнуть в тени. Она ненавидела эти пылинки. Ненавидела солнечный луч, нагло ворвавшийся в щель между неплотно сдвинутыми шторами. Ненавидела тиканье часов в соседней комнате – ровное, механическое, безжалостное. Тик. Прошла секунда. Тик. Прошла еще одна. Ее жизнь, ее молодость, ее амбиции утекали в никуда под этот дурацкий, монотонный аккомпанемент.
Но больше всего Чешка ненавидела себя. Себя, тридцатилетнюю женщину, зарывшуюся в подушку, уставившуюся в потолок и неспособную поднять руку, чтобы просто откинуть одеяло. Одеяло стало свинцовым саваном, пригвоздившим ее к постели. Тело было тяжелым, чужим, непослушным сосудом, наполненным не болью, а густым, тягучим безразличием. Это было хуже любой боли. Боль – это чувство. А здесь была лишь пустота. Черная дыра в центре груди, которая медленно, неотвратимо засасывала в себя все: желания, мысли, надежды.
«Вставай, – шептал какой-то остаток воли на дне этого колодца. – Просто сядь. Сначала сядь. Потом поставь ноги на пол. Одно движение. Всего одно».
Но ее конечности не реагировали. Они жили своей собственной, растительной жизнью. Мысли путались, набегали друг на друга, как стаи испуганных рыб.
«Вчера… а было ли вчера? Кажется, был звонок. Долгий, надрывный. Я не стала брать. А потом… потом ночь. Темнота за окном такая густая, что казалось, если протянуть руку, можно испачкать пальца в этой черной краске. И снова эти тени в углу. Не просто тени, нет. Тени – это безобидно. Это были именно что тени. Одушевленные. Дышащие. Они шевелились, стоило только отвернуться к стене».
Она зажмурилась, пытаясь вытереть внутреннюю пленку воспоминаний. Солнечный луч упрямо прожигал веки, окрашивая мир в кроваво-алый цвет.
«Пять лет назад. Небо было синим-синим, каким оно бывает только ранней осенью в горах. Мы смеялись, а эхо подхватывало наш смех и разбрасывало его по ущельям. Максим нес рюкзак с провизией, а я шла сзади и смотрела на его широкую спину, на затылок, на который падали солнечные зайчики. Я чувствовала себя неуязвимой. Счастливой. Он обернулся, его глаза сузились от улыбки, в них играли блики…»
– Чеш, смотри! – его голос, такой живой и бархатный, отдался эхом в ее черепе. – Орёл! Видишь? Парит. Полностью свободный.
Она видела. И птицу, и его лицо. Пальцы сами сжались в кулак, вцепившись в простыню, пытаясь ухватиться за тот миг, за то ощущение полета и абсолютного доверия к миру. Но воспоминание было скользким, как рыба, и уходило вглубь, оставляя после себя лишь горький осадок.
– Свободный, – прошептала она беззвучно, и слово показалось ей таким же чужим и бессмысленным, как «квантовая физика» или «счастье».
«А потом три года назад. Кабинет. Стеклянный стол. Человек в белом халате с слишком добрыми глазами. Он что-то говорил. Слова долетали обрывками: «…рецедив…», «…метастазы…», «…нужно бороться…». Максим сидел рядом, его рука сжимала мою. Его пальцы были ледяными. Холод от них проникал мне в ладонь, в вены, добирался до самого сердца и замораживал его. Я смотрела не на врача, а на пылинки, танцующие в луче света над его головой. Так же, как сейчас. Тогда я впервые подумала, что они похожи на пепел».
Пепел. Все превратилось в пепел. Его жизнь. Их любовь. Ее будущее. Осталась только эта серая, мелкая пыль, кружащая в солнечном луче.
Тик. Тик. Тик.
Пять часов сорок семь минут.
Внезапно ее собственное бездействие, эта парализующая апатия, показалась ей не просто слабостью. Она почувствовала нечто иное. Животный, примитивный страх. Ощущение, что она замерла не просто так. Что это – инстинктивная реакция зверька, который чувствует приближение хищника и замирает в надежде, что тот его не заметит. Что любое движение, любой звук – скрип кровати, шарканье тапочек по полу – станет сигналом к атаке.
Она задержала дыхание, вслушиваясь в тишину квартиры.
Тишина была не пустой. Она была плотной, насыщенной, звенящей. В ней было слышно биение ее собственного сердца – неровное, испуганное. Слышно, как по стеклу за окном царапается ветка старого тополя. Слышно, как где-то далеко, может быть, этажом ниже, хлопнула дверь.
И потом… потом другой звук.
Чешка напряглась, вся превратившись в слух. Это был не четкий щелчок, не скрип. Это было… смещение. Едва уловимое изменение в атмосфере дома. Словно где-то приоткрыли дверцу старого шкафа, из которого пахнет нафталином и забытыми историями. Или словно по паркету в гостиной прошел совершенно бесшумный шаг.
Сердце в груди дрогнуло, замерло и потом забилось с удвоенной силой, громко, тревожно, вышибая из легких воздух. «Это дом. Старый дом всегда поскрипывает», – попыталась она успокоить себя, но внутренний голос, тот самый, что звал встать, теперь замер в ужасе.
Она вспомнила вчерашний вечер. Тот самый звонок в дверь. Долгий, настойчивый. Она не стала подходить, прильнув к глазку. Снаружи никого не было. Только длинная, пустая лестничная клетка, освещенная тусклой лампочкой. Но на площадке, прямо напротив ее двери, лежал маленький, смятый комочек бумаги. Она увидела его, только когда звонок стих. Белесый, в синих прожилках, похожий на обертку от конфеты. Или на клочок старого письма.
Сейчас этот клочок бумаги лежал на тумбочке рядом с кроватью. Она не смогла удержаться и подняла его тогда, поздно вечером, когда страх немного притупился. На нем было что-то нацарапано. Не чернилами, а чем-то острым, может быть, иглой. Всего одно слово, выведенное угловатым, нервным почерком:
ЖДУ.
Она вцепилась взглядом в щель под дверью спальни. Полоска света из коридора была ровной, нетронутой. Ничьих теней.
«Привиделось. Нервы. Просто нервы», – убеждала она себя, чувствуя, как по спине ползет холодный, липкий пот.
И тут луч солнца дрогнул. Ровная золотая дорожка, освещавшая танец пылинок, внезапно сжалась, затем снова расширилась. Ровно так, как если бы между лампой и объектом прошел кто-то невидимый.
Чешка замерла. Весь мир сузился до этой полоски света под дверью. Адреналин, горький и спасительный, ударил в голову, на секунду прочистив туман апатии. Тело наконец-то послушалось. Она медленно, миллиметр за миллиметром, повернула голову на подушке, чтобы посмотреть на дверь.
Полоска света была чистой. Пустой.
Выдох, которого она сама не осознавала, вырвался из ее груди с содроганием.
И в этот миг прямо перед ее лицом, в сантиметре от носа, повисла одна-единственная пылинка. Она не танцевала. Она висела неподвижно, словно ее подвесили на невидимой нити. А потом резко, против всех законов физики, рванулась в сторону – прочь от солнечного луча, в тень, к стене.
Инстинкт, древний и неумолимый, заставил Чешку поднять взгляд.
На белой поверхности стены, еще секунду назад пустой, теперь четко виднелась тень. Не расплывчатое пятно, а идеально четкая, будто вырезанная из черного картона, тень человеческой головы в профиль. С горбатым носом, резким подбородком, тонкими губами.
Тень повернулась к ней. Два абсолютно черных, бездонных глаза уставились на нее с высоты.
И тишину разорвал не звук, а его полная противоположность – оглушительный, всепоглощающий Вопль. Вопль из ниоткуда, впивающийся в мозг, как ледяное шило.
В следующее мгновение тень исчезла.
А на тумбочке, рядом со смятым клочком бумаги, с тихим, зловещим щелчком загорелся экран ее заброшенного телефона.
Ослепительно белый свет в темноте комнаты.
Одно единственное уведомление на черном фоне.
Глава 2: Призрачные обязательства
Белый потолок. Трещина, убегающая от угла розетки к карнизу, извилистая, как река на старинной карте. Марк фиксировал на ней взгляд, пока глаза не начинали слезиться от напряжения. Это был его якорь, единственная точка отсчета в реальности, которая медленно, но верно теряла четкие очертания, расплываясь, как акварель под дождем.
Мигрень.
Она начиналась не с боли, а с запаха. Слабый, едва уловимый запах озона, будто после близкого удара молнии. Потом приходил звук – высокочастотный, пронзительный звон в ушах, который никто, кроме него, не слышал. И лишь затем, на этой подготовленной почве, расцветал бутон боли. Тугой, пульсирующий, он раскрывался за правым глазом, впиваясь в мозг стальными лепестками.
Сегодня бутон был особенно ядовит.
Он сглотнул комок горькой слюны, и движение головы вызвало новую волну тошноты. На тумбочке, рядом с пустыми стаканами из-под вчерашнего кофе и потрепанным томиком Кафки, мерцал экран смартфона. Уведомления множились, как грибы после дождя. Одно, другое, десятое.
«Марк, ты где? Лекция уже началась!» – от Лены.
«Проф. Орлов спрашивает. Говорил, ты сдаешь ему чертежи сегодня?» – от одногрупника.
«Марк, если ты проспал ещё раз, я лично приду и подожгу твои немытые шторы. Ты в курсе, что это уже третий раз за месяц?» – от Саши, его единственного друга, чей сарказм сквозь текст пробивался с пугающей отчетливостью.
Он отшвырнул телефон так, что тот с глухим стуком ударился о стопку книг. Звук отозвался в висках раскаленным гвоздем. В горле встал предательский комок жалости к себе, сладкий и противный. Мигрень. Идеальное, железное алиби. Ему поверят. Пожалеют. Проф. Орлов, этот сухопарый интеллигент с глазами-буравчиками, вздохнет и скажет: «Здоровье дороже, Марк. Принесете, когда сможете». Лена нахмурится, но в голосе появится та самая, привычная нота опеки: «Тебе таблетку принести? Может, воды?»
Они все проглотят эту ложь, потому что она была удобной, обтекаемой, как гладкий речной камень. И никто, абсолютно никто не знал, что ключ от этой боли лежал у него в руках. Что он сам, добровольно, вкручивал его в виски каждую бессонную ночь.
«Не спать. Только не спать», – шептало что-то внутри, древнее, животное.
Потому что сон – это не отдых. Сон – это дверь. И за этой дверью его поджидало Оно.
~~
Три года назад. Дача. Лето пахло нагретой хвоей и озерной водой. Отец, еще не седой, еще сильный, разводил костер. Угли потрескивали, выстреливая в темноту искрами-светляками.
– Сны, Марк, это не просто картинки, – его голос был низким, убаюкивающим, сливался с шелестом листьев. – Это мосты. Одни ведут в прошлое, к тем, кого мы любили. Другие… другие в иные места. К тем, кто только притворяется, что ждал нас. Они стучатся. Сначала тихо. Просят разрешения войти. Никогда не впускай, сынок. Никогда не соглашайся на их условия.
Марк, шестнадцатилетний, скептически хмыкнул, подбрасывая в огонь сухую ветку.
– Какие условия, пап? Приснится же мне монстр, я ему – а у меня дома родительское собрание, не могу поиграть.
Отец посмотрел на него не по-отцовски – строго, почти сурово. В его глазах отражалось пламя, и оно было живым и опасным.
– Они не шутят. Они предлагают сделки. Силу. Память. Талант. Исполнение желаний. Мелочи. А взамен просят всего ничего – разрешения приходить снова. Становятся твоими квартирантами. А потом… потом выясняется, что квартирант считает себя полноправным хозяином.
~~
Марк застонал, вжавшись в подушку. Тот разговор тогда казался сказкой для впечатлительных детей. Теперь же он знал – отец не врал. Он пытался предупредить.
А потом отец умер. Скоропостижно. Необъяснимо. Вскрытие не показало ничего. Здоровый, крепкий мужчина. Остановилось сердце. Во сне.
И именно в ту ночь к Марку пришло Оно.
Не сон. Ни в коем случае. Это был визит. Четкий, ясный, как граненый стакан. Он стоял в своей комнате, и лунный свет струился из окна. И у кровати, в глубоком кресле, где всегда сидел отец, читая ему на ночь, сидела другая фигура. Высокая, худая, состоящая из спрессованной тьмы и лунной пыли. Черты лица размывались, плыли, но он чувствовал на себе тяжесть ее взгляда.
– Мне жаль, – сказало Оно, и голос был похож на скрип несмазанных петель, на шелест переворачиваемых страниц. – Он был сильным. Долго сопротивлялся. Но его контракт истек.
Марк, парализованный ужасом, не мог пошевелиться.
– Что… что тебе нужно?
– Предложение, – проскрипело существо. – Наследство, если угодно. Ты становишься нашим… доверенным лицом. На земле. Выполняешь небольшие поручения. А мы даем тебе кое-что взамен.
– Мне ничего не нужно!
Существо рассмеялось. Сухой, трескучий звук, от которого зашевелились волосы на голове.
– Всем нужно. Всегда. Посмотри на себя. Посредственный студент. Нескладный. Робкий. Девушка, которая нравится, смотрит на другого. Преподаватели тебя не замечают. Отец ушел, оставив тебя одного справляться с этим жестоким миром. Несправедливо. Мы ненавидим несправедливость.
Оно сделало паузу, давая словам просочиться в сознание, как яду.
– Мы дадим тебе все, Марк. Уверенность. Остроту ума. Память, которая никогда не подводит. Силу, чтобы заставить других слушать. Всего лишь за несколько часов твоего времени в сутки. И… за твою верность.
Марк молчал. Ужас сковывал горло.
– Подумай, – сказало Оно и растворилось, как сахар в воде. А он рухнул на пол, весь в холодном поту, и его трясло мелкой дрожью до самого утра.
Он не согласился. Нет. Он просто… не отказался. А на следующее утро, на сложнейшей контрольной по высшей математике, он вдруг, в одно мгновение, понял все. Формулы сами складывались в голове в идеальные решения. Он сдал работу первым и получил высший балл. Проф. Орлов впервые посмотрел на него с интересом. А Лена, та самая Лена, сама подошла и спросила: «Марк, как ты это сделал?»
Это был пробный шар. Подачка. И он ее взял.
С тех пор оно приходило каждую ночь. Не всегда материализуясь. Чаще – голосом в голове. Отдавало «поручения». Странные, бессмысленные на первый взгляд: пройти определенным маршрутом, прочитать вслух отрывок из старой книги, нарисовать мелом на асфальте у дома странный знак. Он выполнял. Сначала из страха. Потом потому, что плата была слишком сладка. Он стал другим. Уверенным. Ярким. Заметным.
Но плата росла. «Поручения» становились сложнее, страннее. А главное – стали приходить головные боли. Страшные, выкашивающие целые дни. И он понял: боль – это плата за бодрствование. За то, чтобы не видеть Его во сне. За то, чтобы отсрочить новый визит. Он сам насиловал свою нервную систему литрами кофе, энергетиками, бессонными ночами у монитора, лишь бы не сомкнуть глаз. Лишь бы не впускать его обратно.
~~
В квартире пахло затхлостью и несбывшимися надеждами. Луч солнца, пробивавшийся сквозь щель в шторах, уперся в стену, освещая постер с какой-то давно забытой группой. Лица музыкантов казались уставшими и разочарованными.
Телефон снова завибрировал, заскакав по стопке книг.
Саша. Марк с трудом оторвал голову от подушки и нащупал аппарат. Голос его прозвучал хрипло, чужим:
– Алло?
– Жив? – в трубке буквально шипел сарказм. – Орлов в ярости. Говорит, если твой гениальный чертеж не окажется на его столе к завтрашнему утру, он лично позвонит твоей маме и споет ей арию о ленивом сыне. Где ты?
– Мигрень, Саш… – выдавил Марк. – Не могу… даже глаза открыть.
На другом конце провода наступила пауза. Слишком долгая.
– Опять? – голос Саши внезапно потерял все насмешливые нотки. Он стал серьезным, настороженным. – Слушай, Марк… Это уже не смешно. Ты меняешься. Ты как зомби какой-то. То ты супермен, то ты валяешься пластом. У тебя проблемы? Может, с наркотой? Говори прямо.
– Да нет же! – почти взвизгнул Марк, и боль в висках вспыхнула с новой силой. – Голова, черт возьми! У всех бывает!
– Ладно, ладно, – Саша не звучал убежденным. – Слушай, а что это ты вчера делал у старого корпуса в полночь? Я тебя видел. Ты ходил кругами вокруг дуба того, старого. И что-то бормотал. Я окликнул – ты не отреагировал, будто тебя и нет. Испугал меня, честное слово.
Ледяная струя пробежала по спине Марка. Вчера… полночь. Поручение. Оно велело обойти древний дуб трижды против часовой стрелки и прошептать старую фразу на языке, которого он не знал. Он думал, что никого нет.
– Это… не я, – солгал он, и ложь прозвучала гнусно-фальшиво. – Ты кого-то другого видел.
Еще одна пауза. Более тяжелая.
– Ясно, – сухо сказал Саша. – Ну, лечись. Выздоравливай.
Щелчок в трубке прозвучал как приговор.
Он бросил телефон. Руки дрожали. Страх, холодный и липкий, сковал его сильнее любой мигрени. Оно заставляло его делать что-то наяву. Что-то, что видят другие. Он терял контроль. Он становился сосудом, марионеткой.
Он зажмурился, и перед глазами поплыли кровавые пятна. В ушах снова зазвенело. И сквозь этот звон, едва различимый, словно из другого измерения, пробился голос. Тот самый.
«Контракт надо продлить, Марк. Сегодня ночью. Ты знаешь правила. Или ты получишь то, что заслуживаешь. Как твой отец».
Голос был тихим, вежливым и абсолютно бесчеловечным.
Марк рывком поднялся с кровати. Мир поплыл, закружился. Он нащупал рукой стену, чтобы не упасть, и почувствовал, как под пальцами штукатурка… шевелится. Он отдернул руку, как от огня.
На белой поверхности стены, прямо перед ним, проступило пятно. Сначала просто влажное пятно. Потом оно стало темнеть, вытягиваться, обретая форму. Форму человеческого силуэта. Силуэта, сидящего в кресле.
Он закричал. Беззвучно, внутри себя. Он отшатнулся, споткнулся о стопку книг и рухнул на пол. Боль в голове взорвалась ослепительной сверхновой, поглощая сознание.
Когда зрение прояснилось, на стене не было ничего. Лишь трещина, убегающая к потолку.
Но на полу, рядом с его лицом, лежал маленький, смятый клочок бумаги. Его там не было секунду назад. Он лежал аккуратным белым квадратиком на пыльном полу.
Дрожащей рукой Марк поднял его.
На бумаге, выведенным тем же угловатым, нервным почерком, что он видел в своих кошмарах, было написано:
ТВОЯ ОЧЕРЕДЬ. ЖДУ У ДУБА. В ПОЛНОЧЬ.
И под текстом – аккуратный, идеально выведенный чертеж. Его чертеж. Тот самый, который он не сдал Орлову. Тот, над которым он бился две недели. Завершенный. Безупречный.
Цена была ясна.
Глава 3: Тихий бунт
Радуга. Хаотичная, бессмысленная, прекрасная радуга из бумаги и типографской краски. Она рождалась на полу ее гостиной, растекаясь по потертому ковру, как нефтяное пятно, но не смертоносное, а живительное. Во всяком случае, Чешка отчаянно пыталась убедить себя в этом.
Красный. Алый, как закат над Влтавой, который она наблюдала когда-то, будучи счастливой и свободной. Терракотовый, как черепица на пражских крышах. Вишневый, как вино в бокале, из которого она пила с Максимом в их первую годовщину. Она ставила том за томом, выстраивая баррикаду из воспоминаний, аккуратно, чтобы корешки образовали идеальный, ровный градиент.
Продуктивность. Да, именно так она называла это действо в своем сознании. Не бегство. Не паралич воли. Не паническое избегание толстого конспекта по клинической психологии, который лежал на столе и своим одним лишь видом нагонял тошнотворную тревогу. А продуктивность. Упорядочивание хаоса. Создание системы. Разве психология не твердит о важности контроля над окружающим пространством для стабилизации внутреннего состояния?
«Врешь себе, дурашка, – ехидным шепотком отзывался в голове голос, похожий на голос ее старшей, чрезмерно практичной тети. – Экзамен через три дня. А ты играешь в кубики. В тридцать-то лет».
Чешка с силой ткнула на полочку «Войну и мир» в темно-бордовом переплете.
– Это не кубики, – прошептала она в ответ вымышленной тете. – Это… структурирование данных. Визуальная гармония стимулирует когнитивные функции.
Голос тети ядовито рассмеялся. Чешка вздрогнула. Она поймала себя на том, что разговаривает вслух с галлюцинацией. Стоп. Не галлюцинацией. С интроектом. Да, вот так звучит профессиональнее. Как будто это меняет суть происходящего.
Она отползла на коленях к следующей стопке. Оранжевый. Цвет апельсинов, которые она обожала в детстве и которые теперь напоминали ей о таблетках-антидепрессантах, таких же круглых и оранжевых. Желтый. Цвет солнца, которого так не хватало за окном, где давно уже моросил противный, мелкий дождь, застилавший мир серой пеленой. Цвет трусости. Цвет той самой клейкой, липучей тревоги, что сковала ее изнутри.
Она взяла в руки старую, потрепанную книгу в желтоватой обложке. «Бремя страстей человеческих» Моэма. Максим подарил. На титульном листе его размашистый почерк: «Моей Чешке – чтобы знала, что ее бремя я всегда готов нести». Она швырнула книгу через всю комнату, как ошпаренная. Та ударилась о стену и упала за диван с мягким, укоризненным шлепком.
Дрожь. По телу пробежала мелкая, предательская дрожь. Она обхватила себя руками, пытаясь унять ее, вжаться в себя, стать меньше, незаметнее. Комната, еще минуту назад казавшаяся уютным убежищем, вдруг начала давить. Книжные стеллажи наклонились, грозя рухнуть и похоронить ее под грузом чужих мыслей, чужих страстей, чужих слов. Тени в углах снова зашевелились, приняв знакомые, ненавистные очертания.
«Нет, – заставила себя подумать она, сжимая кулаки так, что ногти впились в ладони. – Нет. Только не это. Только не сейчас».
Она должна была сосредоточиться на цветах. На системе. На продуктивности. Зеленый. Цвет надежды. Или плесени? Светло-зеленый, болотный, изумрудный… Она лихорадочно принялась раскладывать книги, сбиваясь, путая оттенки, снова перекладывая. Движения ее стали резкими, порывистыми. Это был уже не медитативный ритуал, а отчаянная попытка ухватиться за соломинку, за якорь в бушующем море собственной паники.
~~
Два года назад. Кабинет врача. Не ее врача. Его.
– Все не так плохо, – говорил уставший человек в белом халате, а за окном шел точно такой же противный дождь. – Новый протокол. Шансы есть всегда.
Максим молча кивал, держа ее руку в своей. Его ладонь была сухой и горячей. Он всегда был ее скалой, ее берегом. Она верила в его силу так сильно, что почти забыла – скалы тоже разбиваются волнами.
А потом была больница. Белые стены, пахнущие смертью и антисептиком. Его глаза, теряющие блеск. Его тихий голос, ночью:
– Чешка… мне страшно.
Она, сжимая его руку, отвечала с наигранной, дурацкой бодростью:
– Всем страшно. Главное – бороться. Мы будем бороться вместе. Я помню, ты обещал нести мое бремя. Вот теперь я понесу твое.
Он слабо улыбнулся:
– Твое бремя… это любовь ко всем подряд несчастным котикам и заброшенным книжным магазинам. А мое… мое тяжелее.
Он пытался шутить. До самого конца.
~~
Слезы. Горячие, соленые, ненужные. Они капали на синий корешок «Синих окон» Ахматовой, растекаясь грязными пятнами. Она вытирала лицо рукавом старого, растянутого свитера, но новые тут же сменяли старые. Это было не рыдание, не искренний порыв горя. Это была тихая, беспомощная истерика истощения.
Она не спасла его. Все ее знания, ее будущая степень психолога, ее любовь – все оказалось бессильным перед лицом безжалостной, тупой материи болезни. Она сидела у его постели, держала за руку и… наблюдала. Как настоящий ученый. Фиксировала этапы угасания. А внутри кричала от ужаса и бессилия.
А потом его не стало. И крик застрял у нее внутри навсегда. Глухой, немой, непрекращающийся вопль, который никто, кроме нее, не слышал.
Она отшатнулась от полок, прислонилась спиной к холодной стене и медленно сползла на пол. Колени она подтянула к подбородку, обхватив их руками. Поза эмбриона. Поза защиты. Поза поражения.
Книжный хаос, который она устроила, окружал ее теперь, как стены сумасшедшего замка. Все цвета спектра смешались в одно унылое, грязное пятно. Продуктивность. Какая продуктивность? Это был тихий бунт. Бунт против учебников, против будущего, против мира, который позволил ему уйти. Бунт самой неудачной революционерки в истории, которая вместо того чтобы штурмовать Зимний, переставляла книги с полки на пол.