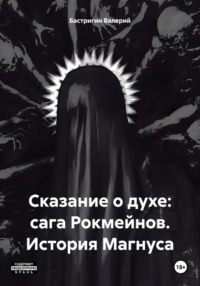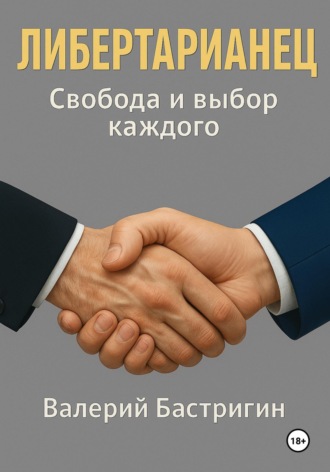
Полная версия
Либертарианец. Свобода и выбор каждого

Бастригин Валерий
Либертарианец. Свобода и выбор каждого

Раздел 1. Собственность.
Собственность – это одна из фундаментальных категорий чело-веческого общества, которая на протяжении тысячелетий вызыва-ла оживлённые споры среди философов, юристов и экономистов. Ещё в античности мыслители пытались понять, в чём её природа: является ли она естественным продолжением человеческой свобо-ды или же источником всех социальных конфликтов.
Так, Аристотель рассматривал частную собственность как есте-ственный элемент человеческой жизни и организации общества. В его понимании человек по природе склонен к обладанию вещами, и сама возможность иметь «своё» является не просто удобством, а основой нравственного развития личности. Он подчеркивал, что имущество становится предметом настоящей заботы и береж-ного отношения только тогда, когда принадлежит конкретному человеку. Если же вещи общие, то ответственность за них раз-мывается, и никто не будет заботиться о них должным образом. Таким образом, частная собственность, по Аристотелю, формирует ответственность, поскольку человек, владеющий чем-либо, ощу-щает долг содержать своё имущество, поддерживать его в порядке и разумно распоряжаться им, что развивает дисциплину и умение принимать взвешенные решения. Более того, наличие собственно-сти даёт возможность проявлять добродетели: человек может быть щедрым, великодушным, справедливым, помогать другим, делить-ся, использовать своё имущество во благо общества, и именно это превращает обладание в нравственную практику. Наконец, Ари-стотель связывал собственность с политической жизнью: для него полноценный гражданин – это тот, кто не просто живёт в полисе, но активно участвует в его делах, а наличие собственности обеспе-чивает человеку независимость и достаток, позволяя включаться в общественную и государственную деятельность не ради выжи-вания, а ради общего блага. Таким образом, в аристотелевской философии частная собственность выступает не только как мате-риальная категория, но и как нравственное и политическое условие полноценного существования гражданина.
Платон, в отличие от Аристотеля, предлагал принципиально иную модель отношения к собственности, особенно когда речь шла о сословии стражей в его идеальном государстве. В «Государстве» он утверждал, что наличие у стражей частной собственности будетнеизбежно вести к зависти, соперничеству, алчности и раздорам, поскольку частное обладание подталкивает человека к корыстным интересам, отвлекает его от служения общему благу и рождает опасность сосредоточения власти в руках тех, кто обладает боль-шими материальными ресурсами. По мысли Платона, именно стражи должны быть свободны от частных имущественных ин-тересов, чтобы их деятельность была максимально бескорыстной и подчинялась исключительно заботе о государстве. Поэтому он предлагал, чтобы имущество, а также даже семьи у стражей были общими, устраняя тем самым любые поводы для соперничества и внутренней борьбы. В его концепции коллективная собственность выступала как инструмент обеспечения справедливости и гармо-нии внутри этого сословия: лишённые личных притязаний, стражи не будут искать выгоды для себя, а направят все усилия на защиту полиса и поддержание его порядка.
Таким образом, у Платона идея собственности напрямую свя-зывается с проблемой справедливости и социального единства. В отличие от аристотелевского акцента на личной ответственности и добродетели, возникающих из обладания «своим», Платон считал, что именно коллективная форма владения способна оградить об-щество от конфликтов и противоречий. Здесь впервые обостряется то противостояние, которое проходит через всю историю филосо-фии и социальной мысли: индивидуалистический подход, утверж-дающий ценность личного владения, и коллективистский подход, ставящий во главу угла общее благо и совместное пользование.
В христианской традиции акценты смещаются. Августин Бла-женный развивал христианское понимание собственности, рассма-тривая её не как абсолютное и неотъемлемое право человека, а как особое служение. С его точки зрения, всё, что существует в мире, принадлежит исключительно Богу, а люди лишь временно пользу-ются земными благами. Человеку предоставляется имущество не для того, чтобы он возгордился, присвоил его себе или противопо-ставил себя другим, а для того, чтобы разумно распоряжаться им в соответствии с божественной волей. Собственность, таким обра-зом, понимается как доверенное управление, своего рода духовное испытание, которое выявляет, способен ли человек относиться к материальным вещам с умеренностью, справедливостью и мило-сердием.
Это означает, что для Августина сама по себе частная собствен-ность не имеет высшей ценности: она не цель, а средство. Насто-ящая ценность заключается в использовании имущества во благо ближнего и во славу Божию. Отсюда проистекает важный вывод: богатство и вещи не должны становиться предметом привязанно-сти или поводом для гордыни, напротив, они должны помогать в деле христианской добродетели – в милосердии, щедрости, заботе о нуждающихся. Таким образом, Августин переосмысляет антич-ное наследие: если для Аристотеля собственность была школой личной ответственности и условием политического участия, то для христианского мыслителя она становится прежде всего испытани-ем веры и инструментом для проявления любви к ближнему.
Фома Аквинский в своей философии сумел соединить античное наследие и христианское мировоззрение, предложив более сба-лансированное понимание собственности. С одной стороны, он признавал за человеком право на частное владение, подчёркивая, что без него невозможно упорядоченное общежитие: люди должны иметь конкретные вещи в личном распоряжении, чтобы сохранять порядок, планировать хозяйственную деятельность и эффективно управлять ресурсами. Иными словами, собственность обеспечива-ет практическую сторону жизни – организацию труда, распреде-ление обязанностей, стабильность социального устройства.
С другой стороны, Фома строго указывал, что сама по себе собственность не является абсолютной и безусловной ценностью. Она всегда должна рассматриваться в контексте общего блага, ведь конечный владелец всего сущего – это Бог. Поэтому человек, обладая имуществом, несёт моральное обязательство использовать его не только ради личных нужд, но и ради других. Отсюда вытека-ет социальная функция собственности: богатый обязан помогать бедным, сильный – поддерживать слабого, а имущество должно работать на поддержание гармонии и мира в обществе.
Такой подход создаёт характерную двойственность: с одной стороны, утверждается право индивида владеть и управлять ма-териальными благами, а с другой – накладывается нравственная обязанность делиться, проявлять милосердие, заботиться о ближ-них и соотносить частные интересы с общественными. Именно у Фомы Аквинского появляется фундаментальное для европейской традиции представление о том, что собственность – это не только юридическое, но и этическое явление, в котором индивидуальные и коллективные начала должны находиться в равновесии.
Эпоха Нового времени действительно радикально изменила представления о собственности, сместив акценты с религиоз-но-нравственного и коллективного измерения в сторону инди-видуализма и прав человека. Джон Локк, один из ключевых фи-лософов этого периода, утверждал, что собственность возникает естественным образом, из самой практики труда. По его знамени-той формуле, когда человек обрабатывает землю или создаёт вещь, он «смешивает» свой труд с природой, и результат этого труда становится его собственностью. Таким образом, право владеть чем-либо проистекает не из воли государя, не из божественного установления и даже не из соглашения между людьми, а из самого факта трудовой деятельности.
Локк настаивал, что собственность является естественным правом, столь же неотъемлемым, как жизнь и свобода. Никто не может быть лишён плодов своего труда без справедливого основа-ния, и именно защита собственности становится одной из глав-ных целей государства. В его концепции государственная власть не предшествует собственности, а, напротив, возникает для того, чтобы гарантировать её неприкосновенность. Это переворачива-ло традиционные представления: если ранее имущество рассма-тривалось либо как доверенное управление (Августин), либо как средство служения общему благу (Фома Аквинский), то теперь оно становилось основой индивидуальной автономии и личной свобо-ды.
В этом смысле Локк заложил фундамент современной либераль-ной традиции: собственность у него перестаёт быть лишь мораль-ной обязанностью или политическим условием участия в жизни общества и превращается в одно из главных естественных прав, определяющих достоинство и свободу человека.
Жан-Жак Руссо стал одним из самых резких критиков идеи частной собственности в философии Нового времени. В отличие от Локка, который видел в собственности естественное право и фундамент свободы, Руссо утверждал, что именно с её появлением начались подлинные социальные беды человечества. В «Рассужде-нии о происхождении и основаниях неравенства между людьми» он образно писал, что первый человек, который огородил участок земли, поставил границу и произнёс: «это моё», тем самым поло-жил начало неравенству, зависти, вражде и войнам.
По мнению Руссо, в «естественном состоянии» люди были более равны и свободны: они удовлетворяли свои потребности без стремления к накоплению, жили в простоте и гармонии с приро-дой. Частная собственность же породила стремление к обогаще-нию, разделила людей на богатых и бедных, сильных и слабых, а затем вызвала необходимость создавать государство и законы, которые, по сути, закрепили власть собственников и узаконили со-циальное неравенство. Таким образом, то, что Локк рассматривал как естественное и справедливое право, для Руссо стало источни-ком морального разложения и социальной несправедливости.
Идея Руссо знаменует собой поворот к радикальной критике индивидуалистической парадигмы: если для либеральной тра-диции собственность – это гарантия свободы, то для Руссо она – начало подчинения и эксплуатации. В дальнейшем этот подход оказал огромное влияние на социалистическую и коммунистиче-скую мысль XIX века, которая развивала линию критики частного владения как корня общественных противоречий.
В XIX веке вопрос о собственности получил новое, революци-онное осмысление. Карл Маркс предложил рассматривать её не как вечную и неизменную данность, а как историческую категорию, меняющуюся в зависимости от общественно-экономической фор-мации. В его анализе именно частная собственность на средства производства лежит в основе эксплуатации и неравенства. Рабо-чий создаёт стоимость своим трудом, но капиталист присваивает прибавочную стоимость, то есть разницу между произведённым продуктом и заработной платой, выплачиваемой трудящемуся. Эта фундаментальная несправедливость, по Марксу, и порождает клас-совую борьбу, являющуюся движущей силой истории.
Частная собственность, таким образом, выступает не просто юридическим или экономическим институтом, а механизмом под-чинения одних классов другими. Маркс утверждал, что она не веч-на: в ходе исторического развития капитализм неизбежно приведёт к своему собственному кризису, в результате которого частная собственность на средства производства исчезнет, уступив место общественным формам владения. В коммунистическом обществе, как он его мыслил, средства производства будут принадлежать всем, а эксплуатация человека человеком станет невозможной.
Его современник Пьер-Жозеф Прудон выразил этот протест ещё более радикально и афористично, заявив: «Собственность – это кража». Для него факт приватного владения тем, что по приро-де должно быть общим достоянием, являлся источником социаль-ной несправедливости и угнетения. Эта формула стала своего рода лозунгом целого поколения социалистов и анархистов, отражая глубинное неприятие индивидуалистической концепции собственности, унаследованной от Локка и либеральной традиции.
Так в XIX веке оформились два ключевых направления: с одной стороны, марксистское учение о преодолении частной собствен-ности как условии освобождения человечества, а с другой – анар-хистская и утопическая критика, утверждавшая её несправедли-вость и преступный характер в ещё более резкой форме.
Современная философия и экономика продолжают рассматри-вать собственность как одну из центральных проблем обществен-ного устройства, причём дискуссия ведётся сразу в нескольких пло-скостях. С одной стороны, наследники либеральной традиции – от Джона Локка до Фридриха фон Хайека – утверждают, что право собственности является краеугольным камнем личной свободы. В их понимании именно обладание частной собственностью обеспе-чивает человеку независимость от государства и других людей, де-лает возможным свободный обмен и служит фундаментом рыноч-ной экономики, где конкуренция и частная инициатива становятся источниками инноваций и общего благосостояния. Собственность здесь выступает гарантом автономии и ответственности личности, а её защита – главной задачей правового государства.
С другой стороны, существует мощная линия критики, восхо-дящая к Руссо и Марксу. Её сторонники указывают, что частная собственность не только способствует развитию, но и воспроиз-водит социальное неравенство, отчуждает человека от результатов его труда и формирует системы угнетения. В современном мире это выражается в глобальном имущественном разрыве, концентрации богатств в руках узкой элиты и уязвимости огромных масс населе-ния, которые лишены реального доступа к ресурсам и возможно-стям. В этой перспективе собственность рассматривается не как нейтральное право, а как инструмент власти и контроля.
Таким образом, современная мысль сохраняет напряжённый дуализм: с одной стороны, собственность мыслится как условие свободы и развития, а с другой – как источник конфликтов и несправедливости. Этот спор отражается не только в философских трактатах, но и в реальных экономических и политических прак-тиках: от защиты прав частного бизнеса до дискуссий о прогрес-сивном налогообложении, перераспределении богатств и формах коллективного владения.
В XXI веке проблема собственности действительно выходит на новые горизонты. Если в прошлом главным объектом споров были земля, фабрики или капитал, то сегодня в центре внимания оказы-ваются нематериальные ресурсы: интеллектуальная собственность, цифровые данные, виртуальные активы. Общество сталкивается с принципиально новыми вопросами: кому принадлежат личные данные пользователей в интернете, кто вправе распоряжаться алгоритмами и результатами работы искусственного интеллекта, можно ли патентовать генные технологии и где проходит граница между общим достоянием человечества и коммерческим правом отдельных корпораций. Эти вызовы делают проблему собственно-сти столь же острой, как и во времена становления индустриально-го общества.
Современная действительность показывает, что собственность перестала быть исключительно материальной категорией: она всё больше смещается в сферу информации, знаний и технологий. При этом встаёт ряд этических и философских проблем: не превраща-ется ли человек сам в «объект собственности», если его данные и биологические характеристики становятся предметом купли-про-дажи; не создаёт ли концентрация цифровых ресурсов в руках кор-пораций новые формы зависимости и социального неравенства; возможно ли в будущем говорить об «общечеловеческой собствен-ности» на такие достижения, как искусственный интеллект или геномные исследования.
Таким образом, собственность в XXI веке предстает как живое и динамичное философское понятие, в котором отражаются все эта-пы развития цивилизации: от античной идеи личного владения и ответственности до современных дискуссий о цифровом простран-стве. Она остаётся не только юридической нормой или экономиче-ским инструментом, но и выражением глубинных представлений общества о справедливости, свободе и будущем человека.
Собственность – в любой адекватно устроенной форме – су-ществует «во благо многих», потому что связывает свободу с ответ-ственностью, мотивы с результатом, а планы – с ресурсами.
В капиталистической рамке это благо прорастает снизу: милли-оны частных решений, нацеленных на выгоду собственника, через рынок складываются в удовлетворение предпочтений потребите-лей – тех самых «многих».
В социалистической рамке благо прорастает сверху и снаружи рынка: общество резервирует часть ресурсов под общие цели и через механизмы коллективного владения и контроля добивается того, что рынок недооценивает или игнорирует.
Разница – в формации и траектории координации, а не в самой идее собственности: и там, и здесь она инструментальная, нацелен-ная на человеческие нужды.
В традиционных спорах о будущем общества люди привыкли выбирать между двумя полюсами – социализмом и капитализ-мом. Одни утверждают, что без коллективной собственности на средства производства невозможно преодолеть эксплуатацию и достичь равенства. Другие отвечают, что только индивидуальная собственность и свободный рынок обеспечивают процветание и инновации. Однако либертарианство разрушает этот ложный выбор. Оно показывает: не существует необходимости навязывать единый путь для всех. Настоящая свобода означает возможность существования разных форм собственности и разных моделей жизни – бок о бок, в одном пространстве, без насилия и принуж-дения.
Если группа людей хочет строить кооператив, где все равны, где решения принимаются общим собранием, а прибыль распределя-ется поровну – либертарианство это допускает. Более того, оно защищает их право так организовать свою жизнь. Но в то же время никто не может заставить другого присоединяться к этой системе. Рядом с ними могут существовать люди, предпочитающие жить по капиталистическим принципам: индивидуально владеть своим бизнесом, конкурировать, инвестировать, строить частные компа-нии. И их право на это тоже защищено.
Суть в том, что либертарианство убирает из уравнения глав-ное препятствие – государство как источник принуждения. Ведь именно государство навязывает форму собственности: оно может объявить национализацию, а может, наоборот, закрепить систему крупного частного капитала, привилегии корпораций и банки, прикрываясь «рыночными» лозунгами. Но в обоих случаях человек лишается выбора. Либертарианский подход предлагает иной прин-цип: никакой единой модели, только добровольность.
Таким образом, либертарианство не противопоставляет соци-ализм капитализму. Оно ставит их на одну доску, как возможные способы самоорганизации людей. Социалисты могут свободно жить по своим правилам, создавая общины и разделяя собствен-ность, но они не имеют права навязывать эти правила всем. Ка-питалисты могут строить корпорации и частные предприятия, но тоже без права заставлять других жить в их системе. Всё решает свободный выбор.
Именно здесь открывается глубокий парадокс: либертарианство оказывается единственной философией, которая вмещает в себя и социализм, и капитализм. Оно не уничтожает их, а делает их совместимыми в рамках одного общества. Ведь важна не формация сама по себе, а принцип – отсутствие насилия и право каждого выбирать свой путь.
Как писал Мюррей Ротбард: «Свобода – это единое право делать всё, что угодно, пока не нарушаешь права другого». В при-менении к собственности это означает: владей так, как считаешь нужным – один, с партнёрами, с общиной – но не принуждай других к своей модели. В этой универсальности и заключается сила либертарианства.
Глава 1. Самособственность
Самособственность (self-ownership) в либертарианстве является исходным принципом, из которого строится вся система прав и обязанностей. Под самособственностью понимается исключитель-ное право человека распоряжаться собственным телом, способно-стями, временем и результатами своей деятельности.
Философские корни идеи восходят к Джону Локку, который утверждал, что «каждый человек имеет собственность на свою лич-ность». Из этого следовало, что индивид является единственным законным владельцем себя самого, а потому имеет право соединять свой труд с природными ресурсами, превращая их в частную соб-ственность. В современной либертарианской мысли эта идея была развито систематизирована Мюрреем Ротбардом, который рассма-тривал самособственность как моральную аксиому: если человек не владеет собой, значит, кто-то другой может претендовать на его тело и волю, что равносильно рабству.
Важным следствием принципа самособственности является то, что любое посягательство на тело или труд человека рассма-тривается как агрессия. Таким образом, насилие, эксплуатация или принуждение несовместимы с либертарианским пониманием справедливости. Право распоряжаться собой предполагает также право вступать добровольные отношения: индивид может обме-нивать свой труд на деньги, создавать предприятия, объединяться с другими в кооперативы, либо, напротив, действовать индивиду-ально. Ключевое условие – добровольность и отсутствие внешнего насилия
Практические примеры самособственности можно найти как в истории, так и в современных институтах. Рабство в XIX веке наглядно демонстрирует отрицание принципа самособственности. В условиях рабства человек был лишён этого права: его тело и труд считались собственностью другого человека – владельца. Рабы не могли самостоятельно распоряжаться своей жизнью, принимать решения о своей судьбе или извлекать пользу из своих трудовых усилий. Таким образом, рабство представляло собой системное нарушение базового права человека быть хозяином собственной личности и свободно распоряжаться своими способностями. В противоположность рабству современные правовые системы закрепляют запрет на принудительный труд, исходя из принципа самособственности. Человек признаётся полноправным хозяином самого себя: его тело, труд и способности находятся под его соб-ственным контролем, а извлечение выгоды из его деятельности без согласия рассматривается как нарушение фундаментальных прав. Законодательство современных государств таким образом закрепляет презумпцию автономии личности и защищает каждого человека от превращения в объект чужой собственности.
Другой пример можно увидеть в сфере медицины: право паци-ента отказаться от лечения, даже если врачи считают его необхо-димым, вытекает из принципа самособственности. В экономике проявлением этого принципа является возможность свободного выбора формы занятости: человек вправе работать на себя, соз-давать кооператив, продавать свои навыки на рынке труда или полностью отказаться от участия в рыночных отношениях
Таким образом, самособственность является краеугольным кам-нем либертарианской теории. Она обеспечивает непротиворечивое основание для прав личности и частной собственности, защища-ет автономию индивида и исключает оправдание принуждения. Именно через признание самособственности либертарианство стремится построить общество, где разнообразие форм собствен-ности и способов взаимодействия возникает не в результате поли-тического давления, а как следствие свободного выбора людей.
В левом либертарианстве подход немного иной. Социалисти-ческие либертарианцы соглашаются, что человек принадлежит самому себе и никто не вправе распоряжаться его телом или вре-менем против его воли. Принуждение, эксплуатация и насилие в такой же степени отвергаются, как и в праволибертарианстве. Но дальше встаёт вопрос: если люди обладают равными правами на самособственность, то как быть с природными ресурсами, которые изначально не были созданы трудом? Здесь и появляется ключевое отличие.
Для праволибертарианцев (Локк, Ротбард, Нозик) достаточно факта «присвоения через труд» – если человек обработал землю или использовал ресурс, он становится его владельцем. Для соци-алистических либертарианцев (Мюррей Букчин, Норма Джонсон, современные коммунитарные анархисты) такое понимание не-справедливо, потому что оно создаёт асимметрию: один человек получает монополию на участок природы, а другие оказываются лишены доступа к нему, хотя их самособственность столь же фун-даментальна. Отсюда возникает идея коллективного или равно-правного доступа к ресурсам, но без государственного принужде-ния.
Социалистическое либертарианство утверждает, что самособ-ственность возможна только в том обществе, где устранены струк-турные отношения доминирования – например, наёмный труд, при котором один распоряжается результатами труда другого. С их точки зрения, если индивид вынужден продавать свой труд ради выживания, то его самособственность нарушена: формально он владеет собой, но фактически не контролирует условия своей жизни. Поэтому они делают вывод: подлинная самособственность реализуется не через индивидуальное накопление собственности, а через кооперацию и равное владение основными средствами производства.