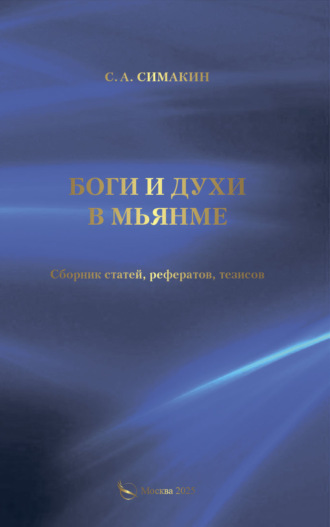
Полная версия
Боги и духи в Мьянме
Последний обряд считается наиболее эффективным, поскольку переименование имеет определенную магическую значимость. Изменение имени или сохранение его в тайне с целью уберечь человека от влияния «рассерженного» духа практикуется не только у шанов. Лису дают ребенку «духовное имя», которое хранится в тайне и сообщается только духам предков. Второй раз это имя упоминается уже после смерти человека, когда заклинатели обращаются к духу умершего, прогоняя его в страну мёртвых. Качины дают имя ребенку сразу же в момент его рождения, чтобы опередить духа, который, как верят, может дать имя первым: тем самым он получит власть над ребенком и сможет навлечь на него несчастье.
Во всех этих случаях проявляется одна и та же тенденция сознания: отождествлять наименование и познание, познание и обладание, владение, а отсюда – наименование и владение. В последнем примере это прослеживается наиболее отчётливо: кто назвал – тот и «хозяин».
Насильное выдворение духа, хотя и имеет место, но практикуется редко и применяется, как замечено, только по отношению к духам болезней. В шанской семье, когда местным врачевателям не удается помочь больному, созываются родственники и знакомые, задача которых состоит в том, чтобы производить максимально возможный шум, раздражающий и изгоняющий духов.
Многие народы Бирмы пытаются оградиться шумом от духов эпидемий. Английский офицер Е. Д. Каминг рассказывает, что видел, как жители одной деревни влезли на крыши своих домов и неустанно гремели чем попало три дня и три ночи, надеясь тем самым обезопасить себя от приближающейся эпидемии[10]. Он даже усмотрел в этом рациональное начало: «физическая и духовная занятость может таким образом препятствовать заболеванию».
Прежде чем предпринимать какие-либо действия по отношению к духу, определяется, что за дух причастен к тому или иному случаю, а также чем и каким образом на него воздействовать. Для этого у каждого народа есть свои средства. Из них выделяются два наиболее распространенных:
1) Обращение к различного рода «посредникам» – провидцам, лекарям, предсказателям, колдунам и т. п.
2) Гадание по костям, камням, бамбуку и др.
В каждой чинской деревне есть провидец. Чаще всего это женщина. Зовут её Кхуаван-ну. В соответствии со своей миссией она, впадая в транс (не без возлияний), определяет разновидность духа, которому необходимо сделать подношение. Кхуаван-ну уверяют, что были в стране мертвых и рассказывают, что они там видели.
Такие же посредники есть у племен лису и у каренов. Последние большое значения придают экзорцисту, усилия которого чаще всего направлены против духа Пии-ка. Это дух женского пола, которого никто не видел, «но слышали топот её копыт». Цель экзорциста – определить, чей Пии-ка беспокоит заболевшего человека. Ответ буквально выбивается из больного. Далее процессия направляется к дому обвиненного, и, если экзорцист установит, что слова больного подтверждаются, этот дом сжигают.
Качины по «духовным» вопросам обращаются к тумса, бирманцы – к нат-кадо (букв. «супруга ната»). В отличие от посредников многих других народов Бирмы её «профессия» наследуется. Говорят, что женщину, отказавшуюся стать нат-кадо, ждёт болезнь и смерть. В среде нат-кадо есть своя иерархия. Нат-мая джи – старшая из них; ей прислуживают младшие нат-кадо, за что она обучает их искусству общения с различными духами.
Народ кая (красные карены) чаще всего не пользуется посредниками. Всю информацию о духах им поставляют кости птиц. Если кости не показывают необходимости жертвы, таковая не приносится даже в случае смерти. Кости птицы – словарь кая: по ним определяют, где строить дом, откуда и когда отправляться в путь и т. п.
К костям обращаются и карены, чтобы выяснить, какому из главных духов (ка, лу, какн, моки) необходимо делать подношение. По тому же вопросу лису практикуют гадание, используя побеги бамбука. Всего необходимо 33 веточки, каждая девятая из которых зажимается между пальцами. Расположение побегов указывает лису, желает ли чего-нибудь дух и что именно.
Завершая тему о посредниках, следует отметить, что в случае несбывшегося предсказания они возлагают вину либо на самого пострадавшего, либо на духа типа качинских марау, которые, как считают, могут, несмотря на свой низкий статус, свести на нет влияние даже высших духов. «Эти марау – своеобразный предохранитель механизма жреческой диагностики»[11].
Буйволы, свиньи, собаки, птицы – обычные жертвенные животные у всех народов Бирмы. Мясо в большинстве случаев поедают сами участники обряда, т. к. считается, что дух удовлетворяется «жизненной сутью» животного или самим фактом жертвоприношения. Однако задача ритуала состоит не только в том, чтобы задобрить духа. Существует также социальный аспект процедуры, заключающийся в том, чтобы в известной мере закрепить и освятить социальную стратификацию общины. Право и возможность совершить подношение определяются, во-первых, положением жертвователя в обществе, во-вторых, видом духа. Например, в случае вышеупомянутого трёхдневного обряда у качинов право совершить подношение духу Шадипу предоставляется только главе деревни, а жертвы духу неба и его дочери делают низы общины. Таким образом в ритуале отражается социальная и спиритуальная исключительность вождя[12].
У чинов есть целая серия праздников, называемых «бави лам» – путь к достижению благосостояния или «ин-лаш» – путь к дому; что по сути дела одно и то же, т. к. критерием индивидуального благосостояния у них является возможность построить собственный дом. Сначала строится плетеное жилище, затем, по истечении определенного срока и с приобретением необходимых материалов для постройки деревянного дома, делаются подношения духу дома и начинается строительство. Если у хозяина достаточно средств на возведение забора, разбивку участка и т. п., он демонстрирует это в «обрядах заслуг», на которые собираются все жители деревни. Хозяин должен доказать своё право на более высокое общественное положение способностью развлечь и накормить всех гостей, особенно почётных представителей.
Во время «обряда заслуг» жертвы приносятся многим духам. Верят, что дух убитого животного отправляется в матхи-кхуа – деревню мертвых, где как бы ратифицируется новое общественное положение жертвователя. Попав после смерти в деревню мертвых, хозяин, по убеждению чинов, будет владеть теми животными, которых он приносил в жертву при жизни. Подобные обряды имеют место и у племён нага.
В завершение данного раздела остается добавить, что несмотря на наличие у большинства духов собственных имен, многие западные исследователи, а также сами бирманцы, часто называют их общим термином «нат». Термин этот чужеродный. По одной из версий, произошёл он от палийского слова «натха», что значит «хозяин». В Бирму попал, вероятно, вместе с языком пали, т. е. в XI в., когда монское государство было покорено первой бирманской империей Паган, или немного раньше – во время первых контактов бирманцев с Пегу, столицей монского государства. По существу, термин «нат» применим только к собственно бирманским духам, но даже и в этом случае он не покрывает всего многообразия сверхъестественных существ. Так, тасхей и билу, которые в бирманском и монском фольклоре сопоставимы с «нечистою» из славянских сказок, функционально близки некоторым категориям натов, однако, как правило, ими не называются. Единственное известное нам исключение – слияние двух понятий в одно – «нат-билу».
Собственно бирманский культ натов рассматривается отдельно (см. нижеследующие статьи).
Краткий обзор мифовАнализ этногонических мифов на территории Бирмы показывает их многослойный, эклектический характер: все они в той или иной мере испытали на себе влияние локальных анимистических верований и привнесенных мировых религий – христианства и буддизма.
Типичным для местных «малых» народов в композиционном и в содержательном плане можно назвать миф лису, который следует ниже в форме свободного пересказа.
«Давным-давно это было. Рассердился бог на людей и решил погубить весь мир. Призвал к себе крестьянина, который выращивал тыквы, и молвил ему: «Возьми семя тыквы, посади и жди плод. Больше тебе никогда не будут нужны тыквы». Услышал человек бога и сделал так. Вскоре выросла огромная тыква. Но тут тучи собрались, и ливень пошёл, и покрыли воды всю землю. Проделал тогда человек в тыкве отверстие и спрятался в ней вместе с сестрой. Много дней носили их воды, а когда вновь прибили к суше, увидели брат и сестра, что остались они одни-одинёшеньки. Некому было продолжать их род. И сказали они: «Пусть бог решит эту проблему». Влезли они на высокую гору, взяли с собой два каменных жернова и пустили их под гору. Покатились камни и внизу соединились вместе. Тогда совершили брат и сестра свадебный обряд, и вскоре родились у них три сына. Пошли сыновья каждый в свою сторону, и были они предками трёх народов. Два брата жили в горах, занимаясь охотой. Были они самые известные стрелки из лука. Однажды решил старший брат взять себе в жёны обезьяну. Но не знал этого младший, увидел обезьяну и убил её. Взял тогда старший другую обезьяну, и опять младший убил её. Рассердился тогда старший брат и выгнал младшего из дома; пошёл тот скитаться по горам, опечаленный. Да пожалел его дух гор: даровал двух женщин – красивую и обычную; измазал младший брат лицо красавицы глиной и предложил старшему выбрать себе одну из двух, а когда выбрал тот обыкновенную, рассмеялся младший брат, смыл грязь с лица красавицы, и увидел старший, что обманули его. Разгневался он пуще прежнего и загнал младшего брата в тёмную пещеру. Долго бродил младший по пещере, пока не пришёл в подземный мир, который ничем от нашего не отличался – то же небо, те же деревья. Но вдруг появились тигры, и началось великое сражение. Много тигров убил младший брат, а когда захотел назад выбраться, помогла ему летающая белка с девятью хвостами. «Держись за хвост, вывезу я тебя, только ты не смейся надо мной», – сказала она и полетела. Да не мог брат удержаться от смеха, и чем больше он смеялся, тем меньше становилось хвостов у белки. Скоро остался один обрубок. Испугался тогда младший брат, перестал смеяться, ухватился покрепче и благополучно выбрался наверх».
Этот миф, похоже, не обладает ритуальной значимостью и является сравнительно поздней версией, судя по тому, что он сочетает в себе фрагменты самых разных историй. Не исключено, что на окончательную его редакцию повлияли и некоторые христианские представления, распространяемые миссионерами, и легенды соседних китайцев.
Понятие о верховном божестве и картины всемирного потопа (явно пришедшие извне), истории о тыкве, браке брата и сестры, человека и обезьяны встречаются в мифах многих народов. Чины, например, тоже включают в свои мифы легенды о потопе, брате, сестре и их потомках. Представление о высшем божестве, правда, у них выражено слабо – это первопредок Кхуазин, именем которого католические проповедники «для доходчивости» стали называть христианского бога и тем самым окончательно запутали первоначальные представления об этом персонаже. Зато в чинском варианте мифа о происхождении людей фигурирует очень интересный образ женщины-прародительницы рода человеческого, а также понятие о яйце или «мировом яйце»:
«Сначала появились Земля и Солнце, звезды и Луна (как они появились, никому не ведано). Потом Земля сама породила женщину Хлии-нен, и снесла женщина сто яиц. 99 дали начало 99-ти народам, а одно так и осталось лежать. Нашла его птица и высидела. Вылупились из того яйца мальчик и девочка. Но судьба разлучила их. Вырос мальчик и взял в жёны собаку. А тут встретилась ему девушка, сестра его, и полюбили они друг друга. Захотели они жить вместе. И обратились они тогда к матери своей Хлии-нен
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
см. Htin Aung, Maung. Folk elements in Burmese Buddhism. L., 1962, Htin Aung, Maung. Some inferior Burmese spirits. Man, v.33, № 63–83, L.,1933.
2
Позже, когда в религиозных верованиях этого народа все большую роль начинает играть буддийское учение (в своем позднем варианте значительно модифицированное и не соответствующее положениям ортодоксального толка), понятие о стране предков сменяется картинами буддийского рая и ада.
3
Вероятно, в процессе дальнейшей эволюции анимизма в Бирме культ духа-предка дома сменился культом духа-хранителя домашнего очага, широко распространенным в настоящее время и у бирманцев, и у монов.
4
Leach E. R. Political systems of Highland Burma. L.,1964.
5
Токарев С. А. Проблемы изучения ранних форм религии в советской науке. М., 1964, стр. 173.
6
Temple. Spirit worship in Burma. “Encyclopedia of Religion and Ethics». NY,1910
7
Хронисты утверждают, что при основании г. Мандалая в 1852 году король Миндон будто бы приказал заживо захоронить у столичных ворот беременных женщин.
8
Это деление не абсолютно. Известны духи, влияние которых может проявляться как в области природных явлений, так и в социальной сфере. К примеру, дух Ка у каренов «правит» лесами и ручьями, но в то же время является духом-хранителем домашнего очага.
9
Е. Лич. Указ. раб., стр.173, 174.
10
Cuming E. D. In the shadow of the Pagoda. L., 1893, p.48.
11
Е. Лич. Указ. раб., стр.179.
12
там же, стр.173.



