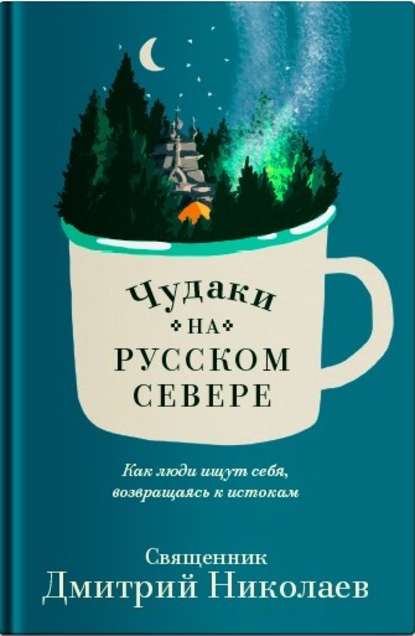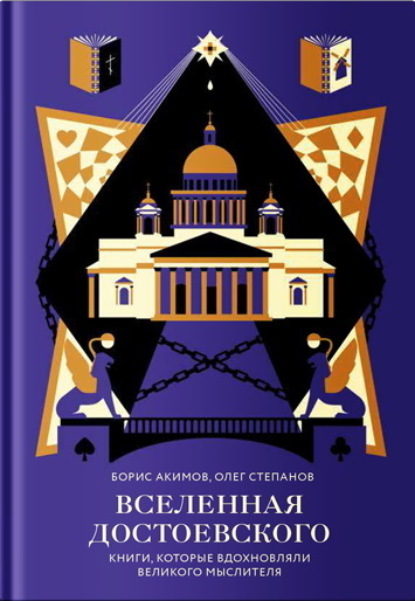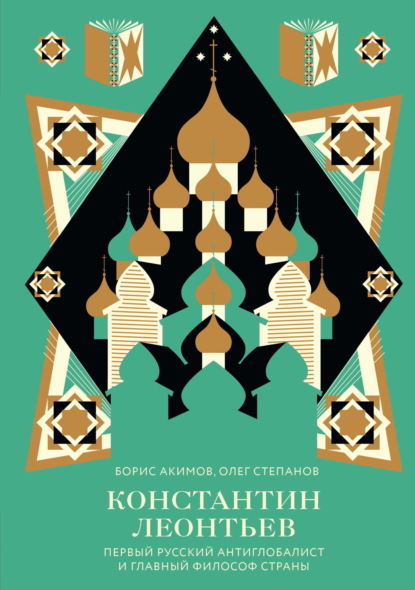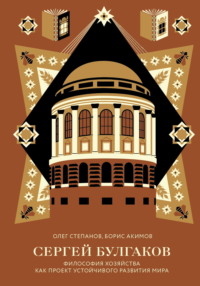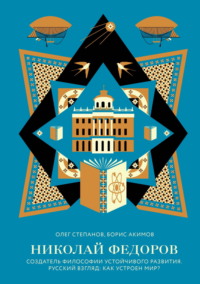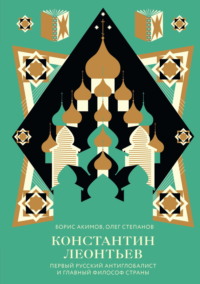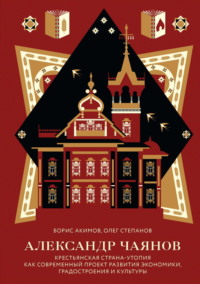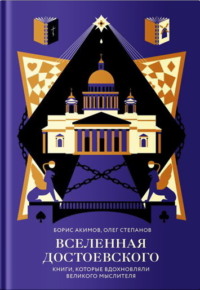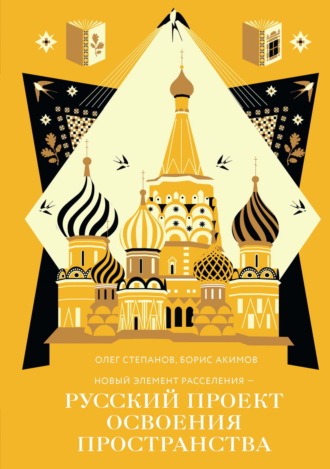
Полная версия
Новый элемент расселения – русский проект освоения пространства
До Нового времени представления о пространстве сформулированы в трудах Аристотеля: пространство неоднородно, оно состоит из уникальных «мест», которые должна занять каждая вещь, помещаемая в это пространство, чтобы вещь стала уместна и воцарилась гармония и красота. По реконструкциям этнографов такое представление свойственно и людям, сознание которых было не тронуто «европейской цивилизацией». Вероятно, что «аристотелевское» представление о пространстве было свойственно людям от древних времен вплоть до Средневековья.
Полноценное планирование искусственно создаваемых населенных пространств появляется именно в Новое время: утопические трактаты об идеальных городах, проекты централизованно осуществляемой застройки. С историей предполагаемой регулярной застройки в Античности – гипподамова система, римские города и т. п. – дело обстоит не так просто. Во-первых, эта цивилизация исчезла под наплывом нового варварского населения, и зародившееся в эпоху эллинизма представление об абстрактном выпрямленном евклидовом пространстве явно было еще долго не свойственно варварской европейской цивилизации. А только оно могло породить спланированную квартальную гипподамову систему поселений.
Возможно, что в Новое время оно возродилось уже на новом витке истории в виде представлений об однородном пустом пространстве.
Во-вторых, есть мнение, что античное поселение, которое мы называем городом, не равно тому социально-пространственному организму, которое именуется городом в современном мире и возникло именно в эпоху модерна. Григорий Ревзин высказывал интересную мысль о том, что античный город – это скорее большая деревня, состоящая из огороженных глухой оградой поместий, проходов между ними, мест сбора селян, рыночных торжищ, но в античном городе нет, как и в деревне, полноценных улиц, которые выполняют общественные и торговые функции. А улицы – это каркас пространственной организации и общественной жизни города Нового времени.
Так или иначе, но представление об искусственно создаваемом и планируемом пространстве для жизни возникает именно в Новое время, как представление о правильном заполнении пустого мыслимого пространства. Какая же логика развития поселений постепенно (по мере отхода «цивилизованного» человечества от «варварских» представлений) возникает в этом пространстве?
В пустом пространстве никакие присущие изначально свойства не ограничивают рост – их просто нет, поэтому бесконечный рост поселения ничто не сдерживает. Если такое пространство уже ранее наполнено чем-то (природным ландшафтом, старыми зданиями), то его можно перенаполнить – сравнять, разрушить и наполнить заново. Такое поселение растекается как нефтяное пятно, постепенно заполняя собой все, превращаясь в мегаполис и далее в агломерацию. Хорошо сказал об этом Рем Колхас в своем эссе «Город-дженерик»: «…это город, освобожденный от гравитации центра, от смирительной рубашки идентичности… если он становится недостаточно вместительным, он просто расширяется, если становится слишком старым, он самоуничтожается и выстраивает себя заново… Города-дженерики вырастают на tabula rasa; если раньше в каком-то месте ничего не было, они просто заполняют это место; если же там что-то было, то они просто заменяют это собой».
Что такое город-дженерик? Это, как и одноименный класс лекарств, город без идентичности, безродный «вообще город», неважно, как и откуда произошедший, но, в отличие от лекарств-дженериков, город-дженерик – это вершина эволюции города модерна, его логическое завершение.
Важнейшим принципом развития поселения в «пустом» пространстве является его функциональное наполнение. Мантра современных градостроителей – zoning, или, по-русски, функциональное зонирование. Это такой аналог пирамиды псевдо-Маслоу в экономике: здесь будем жить – жилая зона, здесь работать – промышленная или административно-деловая, здесь отдыхать – рекреационная, здесь будем перемещать материальные массы – зона транспорта и коммуникаций. В целом современное поселение – это пространство, наполненное нашими функциональными «хотелками»: спать, работать, отдыхать, перемещаться.
Одно из современных осмыслений такого поселения – город-сервис. Это предельно механистическая концепция человеческого поселения, главная идея которой удобство и комфорт через функциональность, доведенную до предела. Спим в квартирах-капсулах на «дцатом» этаже башни-небоскреба, едим в разного рода общественных едальнях или доставляем в капсулу готовую еду, детей воспитывают специалисты в специальных пространствах, работаем на непыльной офисно-творческой работе, все это опутано многоуровневыми коммуникационными трассами, по которым носятся электробеспилотники и роботы-доставщики, отдыхаем на вылизанных до блеска островках искусственной природы, парках – «в нем (городе-дженерике. – О. С.) нет ничего, кроме отражения актуальных потребностей и актуальных возможностей. Это город без истории… он находится на пути от горизонтали к вертикали. Небоскреб, вполне возможно, станет его последней, окончательной типологией. Небоскреб уже поглотил все остальное. Он может существовать где угодно – на рисовом поле или в историческом центре…» (Рем Колхас. «Город-дженерик»).
Логика урбанизированного расселения тотальна, с одной стороны, это пространство, бесконечно засасывающее ресурсы и энергию, с другой – безгранично растекающееся, как система, находящаяся в странном состоянии нарушения основного физического принципа наименьшего действия или наименьшего количества свободной энергии. Что это значит? Значит, что получаемая энергия не используется на образование прочных связей внутри системы, поэтому не образуется стабильной границы, устойчивого состояния, а полученная энергия уходит в бесконечное и бессмысленное расширение.
Расселение людей по земле и классическая физика
Лучшие градостроительные умы человечества, наблюдая кризисный процесс превращения системы урбанистического расселения людей в неуправляемый, неустойчивый процесс поглощения ресурсов, их перемалывания и разрушения любого вида устойчивых связей – природных, социальных, экономических, пространственных, наблюдая процесс «замусоривания» населяемого пространства, пытались найти уравнение устойчивости системы расселения.
В советское время было много великих архитекторов. И одним из международных триумфов советской архитектурной мысли был проект «НЭР – новый элемент расселения» – фурор на выставках в Париже, Осаке, Милане. Студенты МАРХИ предложили концепцию освоения огромного пространства России не «городами» или «деревнями», а «элементами расселения», растущими как плоды на ветвях, отходящих от ствола (ветви и ствол – коммуникации).
Меня больше заинтересовали более поздние исследования Алексея Гутнова (лидер проекта НЭР), где он пытался найти, буквально написать математическое «уравнение развития города» (и написал). Он рассматривал город как энергетическую систему в физике – энергетические потенциалы и их мощность – и нашел количественные аналоги их выражения. Это – уравнение катастрофического развития города, пожирающего пространство. Глубина мысли Гутнова удивительна и, к сожалению, полностью утрачена современными урбанистами-градпланировщи-ками, уткнувшимися носом в «комфортную среду».
В своей книге «Эволюция градостроительства», вышедшей в 1984 году, он, в частности, пишет о неудовлетворительности принципа планирования, основанного на примитивном представлении о грубой функциональности жизни человека: «Монотонность, однообразие, угнетающий стандарт новой архитектуры связаны с механическим, функционалистским отношением к человеку как усредненному абстрактному потребителю архитектуры». К сожалению, до сих пор мы находимся в логике принципов функционального зонирования, катастрофичность которых Гутнов осознал еще в 70-е годы XX века. Алексей Гутнов пытался найти системы уравнений, которые бы описывали органичную систему расселения, которая, конечно, и в его время, и до сих пор связана с городом, то есть с урбанистическим развитием. Он создал в буквальном смысле системы математических уравнений, которые связывали функциональную емкость градостроительной системы (количество рабочих мест, емкость различных видов инфраструктуры: жилой, обслуживания, отдыха) и доступность для населения, измеренную во времени, то есть связанность.
Произведение функциональной емкости на связанность давало значение «потенциала» территории. В созданной им модели выделялся «каркас» градостроительной системы и «ткань». Каркас накапливал мощность потенциала во время захвата новых территорий, разуплотнения, а затем отдавал энергию, уплотняясь путем обрастания тканью, в период реорганизации системы. Таким образом, Гутнов пытался описать органичное дыхание или колебательные движения системы расселения.
Математическую модель Гутнова можно объяснить совсем по-простому: циклическое развитие города – это создание доступных за некоторое оптимальное время рабочих, торговых, рекреационных, транспортных мест или емкостей, которые создают каркас, накапливают потенциал. Этот потенциал создает гравитацию, притягивает людей с неурбанизированных территорий, затем начинается обрастание тканью – жилой застройкой и сопутствующей инфраструктурой, происходит уплотнение урбанистической застройки, затем новый цикл – город выбрасывает щупальца каркаса вновь на неурбанизированные территории и разуплотняется… Это модель «урбанистического пылесоса», который, захватывая энергию и ресурсы извне, оказывается не в состоянии связать в себе полученную энергию, энергия распирает «пылесос», и он расползается по высосанной и вычищенной территории и начинает высасывать ресурсы со следующих территорий. И так до бесконечности.
В модели, созданной Гутновым, проявилось классическое модернистское представление о пустом пространстве, заполняемом архитектурными элементами: жилыми, общественными, производственными, транспортными постройками. Фундаментальное уравнение равновесия, которое он вывел: произведение мощности потенциала на плотность освоения территории есть постоянная величина в ограниченных промежутках времени. Уравнение похоже на принцип равновесия в классической физике: минимизация свободной энергии или максимизация энтропии. Однако и в физике, и в градостроении эти формулы описывают устойчивость «на кладбище» – устойчивость омертвевшей материи, температура которой равна температуре окружающей среды. Формула Гутнова описывает два ужасных вектора: уплотнение расселения людей путем расползания пятен плотности – мегаполисов – и вектор ресурсного запустения остальных пространств, то есть развитие энтропии расселения людей.
Пытаясь вывести уравнение развития города, Гутнов описал развитие пространственно сжимающейся системы расселения, а вот бесконечно растущий город ему описать не удалось. Почему? Потому что уравнение не объясняет, почему и откуда засасываются энергия и ресурсы, накапливаемые в «каркасе» города и затем дающие рост. Если бы город прекратил засасывать ресурсы извне, то он бы застыл в своих границах, а при потерях энергии (например, износ инфраструктуры) – умер, схлопнулся. Гениальное уравнение Гутнова – это полная аналогия с уравнением равновесия классической механики и термодинамики в физике: принцип минимизации энергии и максимизации энтропии. Это принцип застывания, остывания и смерти, а не принцип развития!
Попытки вырваться из душного коллапсирующего тупика, в который завело градостроение и – шире – освоение пространства и развитие концепции «европейского города» Нового времени, были свойственны всему XX веку. Здесь стоит упомянуть и спор конца 20-х годов советских «урбанистов» и «дезурбанистов» (Охитович vs Сапсович), и произведения русского экономиста Александра Васильевича Чаянова, и концепцию «Ойкуменополиса» (расселения по всей земле) знаменитого градостроителя Константиноса Доксиадиса, и концепции японского метаболизма в архитектуре Киёнори Кикутакэ и Кисё Курокавы, и, конечно, советский проект НЭР (новый элемент расселения), лидерами которого были упомянутый выше Алексей Гутнов и Илья Лежава. Надо искать выход из тупика примитивной потребительской мысли о «создании комфортной среды». Поэтому в этой книге мы постараемся создать диалог великих архитекторов и мыслителей прошлого с нашими современниками.
И последнее – самое важное. Выход из этого тупика я вижу в опоре на русскую допетровскую традицию градостроения и создания системы поселений (ср. концепции Кисё Курокавы и Константиноса Доксиадиса) на принципах развития в современных условиях «допетровского города». Историки назвали это явление красоты и органичности «русский ландшафтный живописный город». Это явление не совпадает с традицией европейского градостроения, которое победило в России в послепетровское время и уничтожило допетровскую традицию. В этой книге мы должны «побеседовать» и с допетровскими русскими градостроителями.
Разговор 1-й
Противоречия пространства
Говорит Фрэнк Ллойд Райт, архитектор, по версии Американского института архитекторов – самый влиятельный из всех архитекторов США[4]
О земле
Понимание ценности нашей земли как унаследованного человечеством дара практически утеряно сегодня жителями тех городов, которые возникли в результате процесса централизации. Ведь именно централизация способствовала чрезмерному переуплотнению всех этих городов. Городское счастье правоверного горожанина состоит в том, чтобы жить в тепле и тесноте в согласии с людскими толпами. Переродившийся в многоглазого Аргуса, зачарованный вечным коловращением, словно дервиш, городской житель чувствует, как голова его идет кругом от суеты и механического рева большого города, которые полнят слух точно так же, как пение птиц, ветер в ветвях, крики животных, голоса и песни любимых когда-то полнили сердце.
В своем положении он только и может, что создавать новые машины из машин, уже существующих.
Правоверный горожанин превратился в маклера, который подвизается в основном в торговле людскими слабостями, чужими изобретениями и крадеными идеями. Он тянет за рычаги, он нажимает на кнопки как представитель чьей-то чужой власти – на том только основании, что разбирается в хитростях машинного дела. К нам явился паразит духа, дервиш, кружащийся в вихре.
Беспрерывное снование туда-сюда возбуждает городского жителя и одновременно лишает его умения воображать, вдохновенно размышлять и представлять себе будущее; то есть способностей, которыми он обладал, пока жил и разгуливал под безоблачными небесами среди той зеленой растительности, чьим товарищем он был от рождения. Он променял воодушевление Книги Бытия на выхолощенное учение об абстракции. Естественные забавы среди нетронутых лесов, лугов и водных протоков – такое свободное времяпрепровождение он променял на отраву угарного газа, на груды сдаваемых внаем каморок, обычно нагроможденные прямо вдоль мостовых, на «парамаунты», «рокси», ночные клубы и подпольные питейные заведения. И ради этого он ютится в клетушке среди таких же клетушек, под пятой домохозяина, который – вот апофеоз арендных отношений! – проживает прямо над ним в каком-нибудь пентхаусе.
Правоверный горожанин сегодня – такой же раб стадного инстинкта и чувства обладания опосредованной властью, как не так давно средневековый батрак был рабом бочки крепкого эля. Социальный сорняк – просто другого типа. Сорняки дают семена. Дети растут, их тысячами сгоняют в школы, построенные как фабрики, управляемые как фабрики и так же прилежно штампующие усредненных болванов, как конвейер – ботинки.
Сама жизнь лишь тревожно квартирует в большом городе. Горожанин теряет из виду истинную цель человеческого бытия и принимает за жизнь подменное, неестественно стадное существование, которое все больше и больше мутирует в беспорядочное слепое блуждание какого-то разумного животного, как за «освобождение» от рутинной реальности среди механического гудения механических конфликтов. Тем временем ему едва удается сохранять – искусственными методами! – собственные зубы, волосы, мускулы и телесные соки; его зрение угасает от работы при искусственном освещении; его слух нужен теперь в основном для телефонных переговоров; рискуя увечьем или смертью, он двигается теперь только навстречу или наперерез транспортным потокам. Он постоянно теряет свое время из-за других, поскольку и сам столь же регулярно растрачивает время других, пока все снуют в разных направлениях по строительным лесам, по тротуарам или под землей, чтобы попасть в какую-то очередную клетушку, принадлежащую какому-нибудь очередному домохозяину. Вся жизнь горожанина переусложнена и одновременно выхолощена при помощи машин и медицины. Если бы разом иссякло и касторовое, и машинное масло – город тотчас перестал бы функционировать и незамедлительно исчез бы с лица земли.
Сам город стал формой истерической аренды: жизнь горожанина отдана внаем, и его вместе с семьей выселяют, как только он оказывается на мели или «система» дает сбой. Каждый человек сдает, снимает и, наконец, сам оказывается сдан внаем, если замедлит свой безумный темп. Стоит этому несчастному начать печатать шаг не в такт со своим домовладельцем, капиталовладельцем или машиновладельцем, как ему конец.
Однако все мощнейшие современные ресурсы, которыми горожанин естественным образом управляет посредством новейших машин, волей-неволей оборачиваются теперь – благодаря прогрессу человечества – против самого города. Система капиталистической централизации, которую городской житель сам когда-то помог выстроить, уже не работает ни для него, ни на него. Отслужив свое на благо человечества, централизация сегодня – это вышедшая из-под контроля центростремительная сила, все растущая под влиянием различных опосредованных воздействий. В своей жертве – горожанине – она все сильнее нагнетает животный страх быть выкуренным из норы, в которую он привык заползать вечером только для того, чтобы выползти оттуда на следующее утро. Естественная горизонтальность жизни исчезла, горожанин сам приговаривает себя к неестественной, бесплодной вертикальности, оказываясь поставленным на дыбы собственной неумеренностью.
Внеэкономические основания города
Концентрация населения в городах не естественным образом возросла благодаря тому, что три важнейших экономических конструкта – пережитки традиций, которые складывались в совершенно иных обстоятельствах, – были привиты к уже существовавшим способам производства и образовали самую настоящую экономическую систему.
Первая и самая важная форма ренты, которая больше других способствовала распространению бедности как социального явления и чрезмерному разрастанию городов, – это арендная плата за землю. Земля, стоимость которой растет благодаря различным усовершенствованиям или самому росту местных сообществ, оказывается в собственности одного-единственного счастливчика, чье право на владение этим клочком недвижимости есть везение «по закону». Доходы со случайного везения притягивают многочисленных приспешников – «белых воротничков», кормящихся за счет продажи, распределения, управления и сбора нетрудовых доходов с торговли более или менее удачными участками земли. Небоскреб есть современный памятник этому случайному везению. Город – его естественная среда.
Второй экономический конструкт – рента с капитала. Деньги, по известному еще древним евреям принципу «роста», оживают, чтобы бесконечно работать и обесценивать всякую другую работу. Рента с капитала как надбавка к прибыли от труда – еще один вид случайного везения. Новые армии белых воротничков собираются, чтобы деловито подвизаться на ниве продажи, распределения, управления и сбора таких доходов – дармовых, мистическим образом явившихся прибытков к уже заработанным деньгам, которые эти доходы и приносят. Современный город – оплот такого вида наживы.
Третий конструкт – это нетрудовые доходы с технического прогресса. Рента с теперь уже широко распространенных изобретений человечества; прибыль от участия в торговле этими изобретениями, которые располагаются и применяются не там, где они нужны, а там, где это выгодно лишь одной капиталистической централизации. Неизбежным образом прибыль от эксплуатации творческой изобретательности, действующей в интересах человечества, почти без остатка исчезает в карманах все меньшего числа капитанов современной индустрии. Только крохотная доля – помимо подачек от руководства – достается тем, кому эта прибыль принадлежит по праву: людям, чья жизнь была посвящена или пожертвована всеобщему прогрессу в интересах человечества. И разумеется, вся эта неправедная выгода концентрируется в руках все меньшего и меньшего числа собственников – под воздействием центростремительной силы капиталистической централизации.
И все эти служители различных видов ренты естественным образом оказываются одновременно и любимчиками, и покровителями города.
Акрогород
Город будущего интересен нам как город индивидуальности как раз в этом естественном понимании индивидуальности как содержательной целостности человеческой расы. Без этой целостности не может быть подлинной культуры – независимо от того, чем окажется то, что мы называем цивилизацией. Этот город для индивидуальности мы назовем Акрогородом, потому что он предполагает выделение на каждую семью земельного участка площадью минимум один акр[5].
В органичной современной архитектуре все будут по мере возможностей радостно развивать эту составляющую в том же духе, в котором строились величественные соборы Средних веков. Из всего, что нам известно в прошлом, именно этот средневековый дух был ближе всего к коллективному демократическому духу – коллективный дух народа, сплоченного общими задачами, средствами и ресурсами, позволяет без всякой формулы достичь великого единения.
Теряя всякий смысл, городское существование превращается в вечное заключение, обрекающее нас на работу для других и мелкое вымогательство. Такая жизнь уже неактуальна. Большой город больше не современен.
Перемены
Нужно отметить, что до пришествия всеобщей, стандартизированной механизации город был более человечным. И пропорции застройки, и сама городская жизнь были в большей степени соразмерны человеку. При планировании города все пространственные параметры основывались – вполне справедливо – на габаритах человека, стоящего на ногах или сидящего в какой-нибудь повозке позади одной-двух лошадей (механизация тогда еще не предложила более скоростной альтернативы). Праздники остроумия, парады пышности и пиршества случайностей разнообразили жизнь горожан в тех же самых условиях, для которых город и был спланирован. То есть изначально город был формой коллективной жизни облеченных властью и верных своей природе индивидуумов, которые жили на удобном расстоянии друг от друга. Эти городские жители лучшего сорта уже покинули современный город – возможно, отправились путешествовать или переехали в загородные поместья. Все таланты, что только имеются в современном городе, уже давно прибывают туда из деревень, по сути, это глупцы, гордые своим «успехом» и тянущиеся в город, как на рынок, только для того, чтобы найти там ненасытную утробу, которая жаждет лишь количества, а не качества – и которая в конце концов пожирает их самих так же, как сейчас она пожирает саму себя. Рыба есть на рынке, но ее нет в реках. Частые побеги на природу уже сейчас стали жизненно необходимы для всех обитателей города-переростка, который на условиях рабства не предлагает человеку ничего из того, что на свободных основаниях ему не могла бы предложить деревня. В чем тогда прок от этого разросшегося сверх меры города? Та нужда, что приковывала человека к городу, или уже отпала, или вот-вот сойдет на нет. «Горожанин» пока еще существует лишь потому, что настоящая жизнь была у него отнята и он принял то, что предлагалось взамен.
Чрезмерно разросшийся американский город воздвигнут, таким образом, на нашем недоразвитом социальном фундаменте как некая противоестественная экономическая система. Словно опухоль, ставшая злокачественной, словно раковое новообразование, город оборачивается угрозой для будущего человечества. Город с его коммерческой эксплуатацией стадного инстинкта не просто значительно перерос человеческий масштаб, напрочь забыв о человеке как о мериле всего.
Еще важнее то, что душа правоверного горожанина оказалась настолько потеряна, что принимает преувеличение за величие, не может отличить опосредованной чужой власти от своей собственной и видит в грохоте и вертикальной устремленности большого города доказательство своих собственных выдающихся качеств. Правоверный горожанин, низведенный до эйфорического состояния букашки среди грохота заторов и ужасающего столкновения различных сил, видит в этой бурлящей гиперболе свое собственное величие. И он доволен этим – опять-таки опосредованным – величием.
Убогое воспроизведение пространства, взятого внаем. Всепоглощающее ощущение каморки. Острое переживание стесненности, дробности, ограниченности, изъеденности, переполненности пространства. Ярус за ярусом бездушные этажи, пустые расщелины, извилистые пути, проложенные по ветреным, болезнетворным ущельям. Жесткая хватка хищного вселенского эгоизма. Коробка на коробке рядом с другими коробками. В самом низу – черные тени в тесных пещерах, где дни напролет пылает искусственное освещение Извращение!