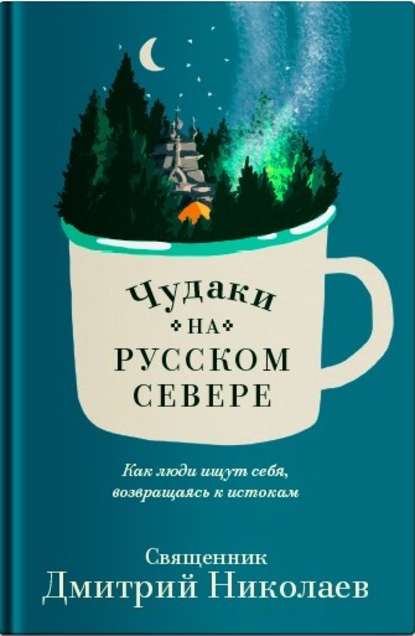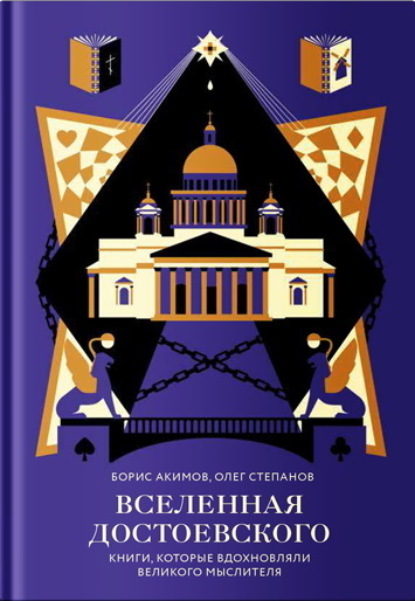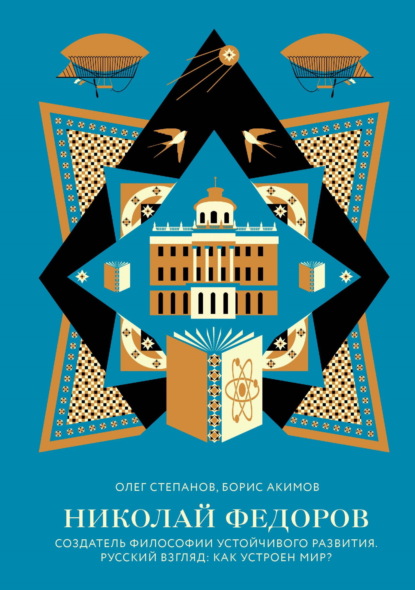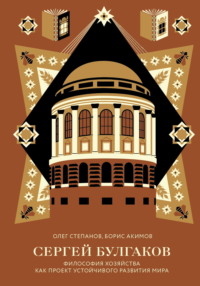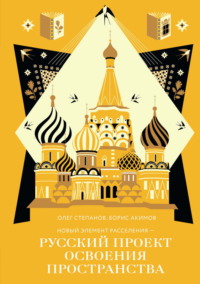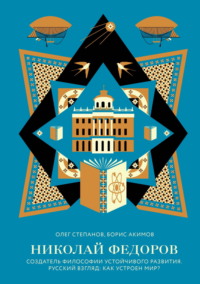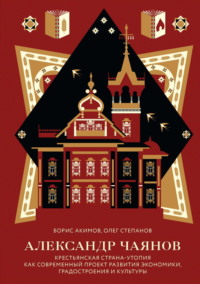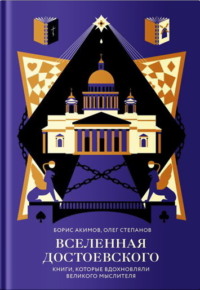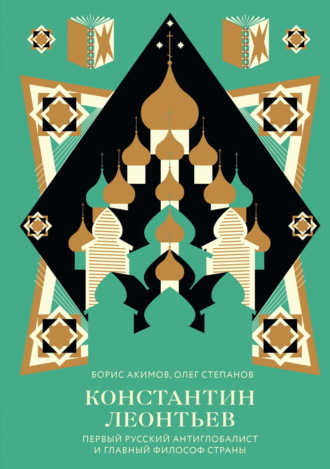
Полная версия
Константин Леонтьев. Первый русский антиглобалист и главный философ страны
Это кажется трудным для понимания лишь в силу шор, накладываемых на человека прекраснодушными, безответственными рассуждениями о свободе. Трактуя ее как безусловное благо, прекраснодушные «жрецы свободы» не учитывают ни природы человека, ни законов действительного бытия людей и явлений мира, ни тех несентиментальных, суровых законов творчества, согласно которым безудержный произвол (чистая, непомраченная свобода) возможен разве что в праздном, провальном эксперименте, но не в созидательном акте, всегда ограниченном изнутри велением строгой необходимости; не в творческом свершении, при каком всякий восторг и порыв дисциплинирован чувством гармонии, тайной и властной острасткой с ее стороны, не объяснимой на языке мер и весов.
«Государство держится не одной свободой и не одними стеснениями и строгостью, а неуловимой пока еще для социальной науки гармонией между дисциплиной веры, власти, законов, преданий и обычаев, с одной стороны, а с другой – той реальной свободой лица, которая возможна даже и в Китае, при существовании пытки…» — писал Леонтьев.
Это неуловимое соотношение – свободы и стеснений – действительно не только для государства – для любого оформленного, развитого, свершенного явления: и природы, и искусства. Но все-таки стоит заметить, что тайна государства, по Леонтьеву, – это тайна творчества. В этом смысле оно – тайна нации, создавшей его (будучи в то же время созданной им). Оно – тайна живого общественного материала, его природных особенностей, исторических обстоятельств, неповторимых условий его бытия, как и его воли к жизни, воли, вдохновляемой и воплощаемой всегда конкретными требованиями гармонии.
«Государство есть, с одной стороны, как бы дерево, которое достигает своего полного роста, цвета и плодоношения, повинуясь некоему таинственному… деспотическому повелению внутренней, вложенной в него идеи. С другой стороны, оно есть машина, и сделанная людьми полусознательно, и содержащая людей как части, как колеса, рычаги, винты, атомы, и, наконец, машина, вырабатывающая, образующая людей. Человек в государстве есть в одно и то же время и механик, и колеса или винт, и продукт общественного организма» – так космически, а не только «социологически или «инженерно» понимал дело Леонтьев. Ведомый сознанием связей, сложного, всесторонне соподчиненного союзничества всего сущего в мире, он равно не отчуждал друг от друга ни государство, ни человека (личность). Не «разметывал» на два «не сходящихся», не сотрудничающих меж собою полюса – свободу и деспотизм.
Именно этот объемный, творческий взгляд, как и внимательное изучение всемирной истории, привел К. Леонтьева к важному – нестерпимому для прогрессистов, устроителей планетарного счастья – выводу, все более очевидному, кажется, для потомков мыслителя: «Государственная форма у каждой нации, у каждого общества своя; она в главной основе неизменна до гроба исторического, но меняется быстрее или медленнее в частностях (!) от начала до конца».
В этом смысле разрушение органически возникшей государственной формы есть гибель нации. А попытки примерить, перенять для себя чужую государственную форму (как бы ни была она хороша на своей почве) ведут к тяжелейшей мутации, вырождению национальной общности.
Ну а если подытожить пересказанное выше из размышлений Леонтьева о законах структур – о законах устойчивой, развитой, плодотворной жизни, – можно сказать: деспотизм у К. Леонтьева всегда ограничен свободой, как свобода ограничена у него насущностью формообразующего деспотизма.
Он любил сложность. Не ту ложную, грубую, претенциозную «сложность машин, сложность администрации, судебных порядков, сложность потребностей в больших городах, сложность действий и влияние газетного и книжного мира, сложность в приемах самой науки», какою ознаменован так называемый прогресс и которую Леонтьев считал только «исполинской толчеей, всех и все толкущей в одной ступе псевдогуманной пошлости и прозы» ради того, чтобы выработать среднего человека по образцу европейского буржуа. Среднего – «среди миллионов точно таких же средних людей», самодовольных и комфортабельно-покойных… Леонтьев видел тут только сложность средства, «алгебраического приема», подчиненного вовсе не сложной по своему содержанию цели – «всех и все привести к одному знаменателю».
«…Горы сравнять – хорошая мысль», – говорил один из героев Достоевского в «Бесах», мечтавший о «полном равенстве» и обезличенности… «Цель груба, проста по мысли, по идеалу…» – в пику всем радикальным и либеральным уравнителям замечал К. Леонтьев, решительно противополагая внешнюю, чисто «инструментальную» сложность приема, тешившую его «прогрессивных» современников, сложности, богатству внутренней идеи: науки ли, бытовых отношений или общественных установлений… То, что мы с серьезною миной, горделиво и снисходительно к прошлому зовем нынче «усложняющейся реальностью», «усложнившейся наукой» (с ее бесконечно-развилистой специализацией), «усложнившейся леностью» (как овражная местность, иссеченной нервозностью и рефлексией и не способной «собрать» себя перед лицом столь же расколото-унифицированного мира), он почел бы как раз атомарным распадом, безнадежным упрощением, измельчением в пыль, где частицы, при всем их болезненном самомнении, неотличимы одна от другой, обреченные дальнейшему перемолу и пустому кружению в черном зеве холодного и безлюдного космоса – самого великого Хаоса, вернее сказать, ибо и дух перемолот, развеян, забыт уж за суетной сложностью.
Он ценил сложность нерукотворного мира, истинно зреющего – набирая неповторимые черты – явления, сложное разнообразие творчески организованной жизни. Сложность цветка, например, – этого «высшего, сильнейшего выражения» дерева или травы, на которых расцвел он, обещая и сложность плода, невместимую все же в «базаровскую» схему азота-кислорода…
К. Леонтьеву принадлежит поэтический термин: «цветущая сложность», который он ввел в русскую философию, обозначая им высшую стадию бытия и растительного, и животного организма, и космических тел, и отдельного homo sapiens, и человеческих обществ, и государств. Это термин из леонтьевской теории развития, гипотезы развития, как еще говорил он, называя ее порой и своим «великим открытием». «Что такое процесс развития?» – спрашивает Леонтьев в главной своей работе «Византизм и славянство», которая и поныне является еще тайной гордостью русской мысли: скрыта от широкого читателя! Отделяя развитие от распространения, разлития, всех экстенсивных и механических процессов (вроде «распространения грамотности» или же нынешнего «умножения технологии»), К. Леонтьев указывает на три фазы в жизни всякого явления: 1) первоначальную простоту (семени, зародыша, младенческого состояния и т. п.); 2) цветущую сложность (единство в разнообразии составных частей, ярко выразивших себя, пребывая меж тем в «организующих, деспотических объятиях» общей внутренней идеи явления, которая «ограничивает… разбегающиеся, расторгающие стремления» в нем; это наглядно, скажем, в соцветии); з) вторичное упрощение (постепенное смешение, уравнивание самобытных свойств отцветающих, увядающих частей, ослабление связи меж ними, вообще уменьшение числа признаков, явственный путь к первобытной простоте: дряхлеющие организмы более схожи между собой, чем те, что переживают расцвет; костяки менее отличимы друг от друга, чем живые, одетые плотью тела, и стремятся уж прямо к первичной, свободной молекуле фосфора, «неорганической нирване», к полному слитию со средой, потоплению в ней)…
Идея единства заведомо требует объектов единения: их множественности и разнородности. «Цветущая сложность» – вершина развития – воплощает как раз торжество насыщенного разнообразием единства, основанного на той или иной общей внутренней идее. В цветущем государстве – это многосословность, социальная многослойность, многокорпоративность, многоукладность, даже разноплеменность, «разнохарактерность областей», сложная «бытовая узорность», пестрота нравов, вкусов, обычаев, разнообразная самобытность всякого местного творчества (в раме разнообразной же местной природы), неравномерность экономических положений и политических прав, упругая гармоника горизонтальных связей и развитость иерархии с безусловною ценностью всех своеуместных звеньев. Принципиальная антиприоритетность при принципиальном, естественном неравенстве. Достаточно стойкие «перегородки» меж самобытностями (охраняющие каждый из этих миров), подвижные лишь «по краям» (так что торговец пирогами может, вообще говоря, стать генералиссимусом, как Александр Меншиков, а «архангельский мужик», выросший на своей сильной, непорушенной почве, – целым российским «университетом»).
Все эти «разно-» и «само-», при обилии их, ясной выраженности и крепости, в каждом обществе, всяком крупном культурном мире держатся вместе своей внутренней идеей – прежде всего, по Леонтьеву, религиозной. Так, былая «цветущая сложность» романо-германского мира – высшей, в оценке Леонтьева, из известных ранее человеческих цивилизаций – единилась идеей папизма, мощным католическим духом, и ослабление единства, как и постепенное обесцвечивание «областей», началось с эпохой Реформации – от духовного понижения в протестантизме. «…Ни конституция, ни семья, ни даже коммунизм без религии не будет держаться», – предсказывал Леонтьев либеральным и радикальным вольнодумцам. «И семья, без иконы в углу, без пенатов у очага, без стихов Корана над входом есть не что иное, как ужасная проза и даже „каторга, по замечанию Герцена“», – добавлял он, убеждая в повсеместной необходимости некой надличной, достаточно строгой сверхсвязи, только и обеспечивающей бытие малой ли ячейки, пространных ли сот – всех сколько-то многосоставных, развитых явлений. «Живое, сердечное понимание „единства", – признавался Леонтьев, – стало доступно мне единовременно с принятием личной веры, обладанием которой я обязан афонским духовникам». И это закономерно, ибо идея религии (любой, самой «бедной»!) есть, в сущности, непременно чувство-идея связи глобальной. (…) В 1873 году, «во время палящих Босфорских каникул», под эллинско-православным небом, он осознает: «…реальное разнообразие развития, которое я находил столь прекрасным и полезным в земной жизни нашей, не может долго держаться без формирующего… ограничительного, мистического-единства; ибо при ослаблении стеснительного единства произойдет скоро то самое ассимиляционное смешение, которое я зову то эгалитарным прогрессом, то всемирной революцией…».
Мощь леонтьевской мысли проступает в своей классической красоте и смелости, когда он прилагает «простую» триаду ко «всей исторической эволюции человечества», к явлениям человеческого духа, судьбе наций и государств, которые, по наблюдениям его, также подчинены «всеобщему закону развития», согласно какому «все сперва индивидуализируется, т. е. стремится к высшему единству в высшем разнообразии (к оригинальности), а потом расплывается, упрощается вторично и понижается, дробится и гибнет».
Он прослеживает ступени развития разных народов и стран с их государственностью, национальными характерами, религиозно-культурными идеалами, искусством. Так, «цветущую сложность» Франции он усматривает в веке «Короля-Солнце» (Людовика XIV), а излет этого разномастно-единого по структуре цветения («эпохи творчества», как еще называл он) – в первой половине XVIII века. «Цветущую сложность» России опознает с конца XVII века и сохранение ее – еще при Николае I. (И т. д.) Разворачивавшийся на его глазах, после революций 1848 года, этап развития старой цивилизации (европейской, с которой граничила Россия, попадая в сферу ее влияния) Леонтьев считал третьим, т. е. предсмертным. Впереди могла быть либо смена культурного типа (по Н. Я. Данилевскому), создание новой великой и самобытной цивилизации – к чему, как долго веровал он, призвана Россия, – либо заражение России этим предсмертным европейским недугом, распространение далее на Восток западных ферментов гниения и распада (процесса широкого, длительного, на который не хватит одного столетья)… Леонтьев решительно говорит именно о гниении современного ему Запада. «…На Западе, несомненно, уже теперь „гниющем“…» – повторяет себя же он в 80-х годах, глядя в уже совершенно «тусклое окно в Европу»; с цветочувствительностью живописца, определяя особенный «серо-европейский» цвет деградирующей жизни; отвращаясь от «гнили и смрада новых законов о мелком земном всеблаженстве и земной радикальной всепошлости».
В социализме, кстати сказать (за столетье до нынешних «левых»), он видел «не что иное, как новый феодализм уже вовсе недалекого будущего», разумея «слово феодализм… не в тесном… его значении романо-германского рыцарства или общественного строя именно времени этого рыцарства, а… в смысле нового закрепощения лиц другими лицами и учреждениями, подчинения одних общин другим общинам, несравненно сильнейшим…» А насчет конкретных осуществлений этого феодализма у нас – реалистически прикидывал: «…союз социализма («грядущее рабство», по мнению либерала Спенсера) с русским Самодержавием и пламенной мистикой (которой философия будет служить, как собака) – это…возможно, но уж жутко же будет многим. И Великому Инквизитору позволительно будет, вставши из гроба, показать тогда язык Фед. Мих. Достоевскому». Социализм же «с человеческим лицом» (как две капли воды, похожим, конечно, на лицо
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.