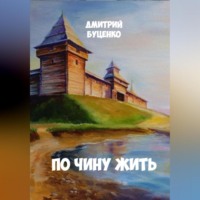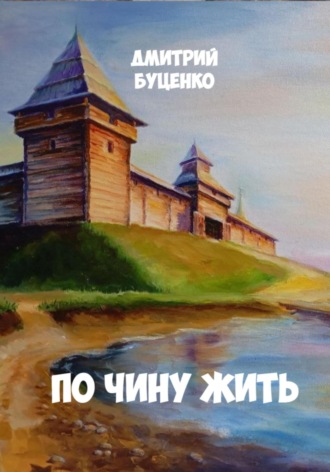
Полная версия
ПО ЧИНУ ЖИТЬ
– А што, твой Gud желат твой смерт из голод? – удивлялся Иван Яковлевич.
– Тебе, Ванька, далеко до нашей христианской веры, – отмахивалась матушка, – я вон, сосновой коры перетру, мучицы добавлю, Исусову молитву сотворю – тем и сыта буду.
– Што я знат? – вздыхает. – Я… я жи люторес.
С усмешкой Иван Яковлевич вытер опустошённый котелок и, наполнив его водой, повесил над огнём:
– Я клюков принёс – кинул три больших жмени ягод в котёл, – осень сушит. Клюков пить будешь? Gudпростить?
– Пить буду, – посмеивается матушка.
– Ну и, Слава Богу – качает головой отец Иона, и они рассаживаются на длинной лавке возле печки, той самой, которая у матушки ещё и постель.
Тихая беседа: о Божьем промысле и о воеводской корысти, о великих праведниках и о стоптанных задниках, о падении нравов и о полезных травах…
За окном уже темно – недолог зимний день. Пора… пора и расходиться.
Мерцающие звёзды на чёрном безмолвном небе да низко висящий хрупкий серп луны освещали обратную дорогу. Впереди отец Иона снова волокушей скребёт снег, ему в след осторожно ступает длинный лекарь-немец – из шведов. Темнеют острожные стены, только на раскатах башен горит огонь в железных чанах. Ворота заперты на ночь.
В посаде им навстречу вывалился из кабака Васька Сумароков. Покачиваясь, прохрипел отцу Ионе: «С немчурой знаешься, отче? »… – и повалился рожей в снег. Лютеранин и схизматик посмотрели друг на друга, затем, вздохнув, подняли под руки тяжеленое захмелевшее тело и поволокли его назад в кабак – чтоб не замёрз зимней сибирской ночью. После чего распрощались: Иван Яковлевич, остался коротать времечко за тёплым русским пивом, а отец Иона, постояв немного, вышел наружу и направился к себе в зимовье – ему далеко ещё идти.
5
– Так, Максим Максимович, доставай бумагу. Мы сейчас с тобой одну челобитную государю отпишем, ту, о какой я тебе с утра говорил, а Яков Ефимович её и отвезёт. Отвезёшь, Яков Ефимович?
– Отвезти-то отвезу, только не с этим я к тебе зашёл.
– Оно и понятно – ты этому острогу уж два годка отдал… расставаться тяжко.
Подьячий уже выложил на стол из сумки пачку бумаги, поставил и раскрыл бронзовую, похожую на маленький штоф, чернильницу, украшенную литым всадником с горном. Теперь проверял и оправлял ножичком гусиное перо и привычно делал вид, что никакие разговоры его не интересуют. Горящие лучины, зажатые в расставленные по всем углам светцы – кованные, затейливо изогнутые подставки – не давали достаточного, по мнению Андрея Леонтьевича, света, потому он торжественно поставил на стол ещё и деревянный подсвечник в три толстенных свечи. Расточительство!
Покряхтев и побарабанив пальцами по краю стола, он кивнул подьячему:
– Пиши: Государь! Я… мол, воевода… тебе пишу. От себя, Максим, тоже напиши…
Максим Максимович удобно устроился, макнул перо в чернила и старательно вывел: «Царю Государю и Великому князю Михаилу Фёдоровичу Всея Руси Самодержцу бьют челом холопи твои воеводишка Андрюшка Шубин, подьячий Максимка Перминов…»
– И Поздея впиши…
«… сотничишка Поздейко Фирсов и во всех Алексеевских служилых людишек и пашенных людишек, и торговых людишек тож…»
– Воевода, ты от разговора не уходи!
Яков Ефимович не желал терять время и ждать, пока воевода с подьячим закончат свои дела:
– Я же тебе совет хочу дать – уж не побрезгуй! Человек ты важный – шапку не на пустое место надеваешь, только дело моё не одного тебя касается…
– Ты о чём? Острог держим в строгости. Порядок, царскими указами определённый, соблюдаем. Что тревожишься? – теперь уже к подьячему, – Максим Максимович, напиши, что жизнь у нас тяжёлая…
«Мы, холопи твои, в Алексеевском остроге, всякие твои Государевы службы зимою в нартах, на лыжах, а в лете ходим на шесте и на весле и на стругах и на кочах безпрестани… А такова Великий Государь места нужна и бедна, что Алексеевский острог, служеб таких нужных и жестоких во всей государевой вотчнине нет».
Яков Ефимович терял терпение:
– Воевода, ты бросай увиливать, я же дело сказать хочу…
– Так я же слушаю… – воевода, словно нехотя, повернулся в сторону и, медленно набрав воздуха, выкрикнул, – Катерина!
Из-за двери соседней комнаты выглянула молодая рослая бабёнка и игривыми глазами оглядела мужчин. Поговаривали, что сманил её воевода с собой, когда перебирался из Тюмени в Алексеевский острог; что бросила она ради него и мужа и остальную семью; а ещё говорили, что свёкр сам её продал Андрею Леонтьевичу.
– Катерина, принеси нам что ль, согреться. И яблочек мочёных принеси… а ты, – воевода повернулся к Перминову, – впиши, что польза от нас большая!
Подьячий понимающе кивнул, макнул перо и склонился над бумагой:
«И те, Государь, жестокие и нужные службы служим безпрестани, и в новые землицы по твой государев ясак ходим, и про новые землицы проведываем, и под твою Государеву Высокую руку приводим, и всякие твои государевы изделья делаем: острог дочиниваем, чтоб от тунгуса и других людей береженье держать, чтоб пришед безвестно, дурна ни которого не учинили. Кочи и струги, для твоей государевы службы делаем, и всякие государевы изделья делаем безпрестани…».
Андрей Леонтьевич неспешно размотал длинный кушак и облегчённо выдохнул:
– Ну, давай, Яков Ефимович, о чём тревожишься напоследок? Сказывай – не томи.
– Дело моё не одного тебя касается. Много трудов было положено, чтоб острог в такой вид пришёл, в котором ты его от меня принял. И дела, которые мы тут с тунгусами делали, не последнюю важность имеют. Знаешь, как этот острог в начале звался? «Тунгусский». Потому что против тунгуса его и закладывали. И тунгусские ясачные волости теперь первое дело…
– Ты о Ялыме? – перебил Хрипакова воевода.
– О нём. Ведь с каким трудом его изловили. – Яков Ефимович выразительно, желая добавить веса своим словам, покачал головой. – Теперь хоть есть надежда, что братец его Тасей, бунт свой и дела воровские прекратит. Под Государеву руку вернётся и…
Воевода поморщился – уж слишком велеречиво начал Яков Ефимович:
– Полно тебе, Яков Ефимович, слова как по писаному выкладывать – не в боярской думе сидим. Ты вот о чём подумай: Ялым у тебя в аманатах уж, какой месяц сидит? С осени ещё, а тунгусы только знают, что безобразничать. Тасей на мировую идти не хочет никак. Сколько отправляли к нему: лаской просили, отряды посылали… вон, братишку на цепь посадили, а развязки невидно. Нет уж, Яков Ефимович – тунгусы теперь моя забота!
В комнату, высоко подняв голову, вплыла разодетая Катерина. На блёдую (бледно-жёлтую) рубаху с длинными, собранными в богатые складки рукавами, поддержанными на кистях бронзовыми чеканными браслетами, надета распашная, до полу замкнутая на стеклянные пуговицы, ярко-красная однорядка. Поставила на стол штоф, оловянные рюмки гостям и серебряную воеводе; глиняную черепушку (миску) с запрошенными воеводой мочёными яблоками поместила также перед ним; развернулась, взмахнув рукавами однорядки, и так же, с поднятой головой, скрылась в другой комнате.
– Вот гусыня… – ощерил зубы довольный её выходом воевода, – С боем мне досталась. Теперь вишь какая – важная!
Налил себе, Якову Ефимовичу. Подьячий отказался, накрыв свою рюмку ладонью, в которой держал перо – работая, винишком не баловался. Выпили. Выдохнули. Потянулись пальцами за яблоками.
– Ты, воевода, зря горячишься. Когда Ялым сбежит – а он сбежит, коль на цепи сидеть не будет – с тунгусами станет трудно договориться.
Воевода встал. Подошёл к подьячему и заглянул в его бумагу:
– Толково пишешь – со вкусом!
Затем вернулся и сел на прежнее место:
– Вот люди сказывают, что Ялым у острога несколько лет околачивался; что и соболя с промысла приносил – не только, что по ясаку положено, но и сверх того на торг давал; что по-нашему говорить наловчился; и живёт он с нами не как тунгус – а совсем как свой; и взять его не великая победа была – сказывают, что возле Чуркиных он крутился, а ты его обманом и сграбастал. Разве больших трудов это стоило? Недоросль за девкой бегал, а ты его с целым отрядом взял. И на цепь!
– Тунгусу верить нельзя! – рявкнул Яков Ефимович.
– А ты и не верь. Только толку с Ялыма как с аманата сейчас уж никакого. Может Тасей и не дорожит им совсем? Может для него он чужой, раз с нами якшается? А ты его на цепь…
– Так ты его отпустить, что ль решил?
– Ну, отпустить тоже теперь не совсем верно. Теперь он для нас скорее враг… твоими, между прочим, стараниями. На цепи держал? Держал. Голодом морил? Морил! Говорят… говорят, что и посох на нём сломал…
Воевода выбрал самое маленькое яблочко, взял его аккуратно тремя пальцами и положил целиком в рот. Закрыв глаза, медленно прожевал. Икнул и повернулся к Перминову:
– Теперь пиши, что церковь есть, а утвари в ней нет – в других церквях есть, а в нашей – нет. Вот так и пиши. И про крещёных остяков обязательно укажи!
Максим Максимович снова макнул перо в чернила: «И поставили в остроге церковку Введения Богородицы, ради твоего Государева моления. И молимся в ней о твоём здравии ежечасно, все убогие рабишки твои и служилые людишки и пашенные, молимся в ней беспрестанно. И новкрещённые вагуличи и татаровя и остяки кто в этих здешних местах обретаются молятся о твоём Великий Государь здравии… Алексеевский острог место украйное, дале того места во всей Сибири нет, да мы холопи твои пред иными сибирскими городами предосужены. Нет при нашей церкви ни книг богослужебных ни святых икон. Не на чем службу служить ради твого Государь имени. Молим тебя Великий Государь Михайло Фёдорович, пожалуй нас убогих рабишек твоих и вели прислать что для церковного моления надобно. Пожалуй Государь за наше службишко и за кровь и за работу, чтоб холопем твоим будучи в Алексеевском остроге твоей государевой службы не отбыть. Царь-Государь смилуйся пожалуй. Писано24-го дня генваря месяца 134 года».
– А ну-ка бумагу передай… и перо тоже.
Воевода потянулся через стол и принял от подьячего принадлежности для письма. Пробежав взглядом по выведенным строчкам, в самом низу челобитной он сделал приписку: «Воевода Андрюшка Шубин руку приложил».
Передал бумагу назад подьячему:
– Сам подпиши… и от остальных тоже черкани. Только, чтоб несильно похоже было.
Вздохнул:
– Ты, Яков Ефимович, много для этого места сделал – не поспоришь. И ясак собирал, и острог переделывал. Вот округу держал жесточью, а по государеву указу следует делать это лаской. Потому ты с Ялымом и попался – теперь мне об этом думать.
– Лаской говоришь? – Хрипаков зыркнул на воеводу исподлобья. – Ты думаешь, я по злобе свирепствую? С подлыми людишками иначе нельзя – каждый тебя сожрать может. Чуть слабинку видят, тут же нож под ребро! Пашенные всё норовят на неурожай списать, торговые на плохую торговлю, служилый народец ленится, а тунгусы… Тунгусы народ боевитый их только силой обламывать следует. Сколько родов я под государеву руку привёл? Сколько путей новых разведал – это ты знаешь? И в Братской, и в Тюлькиной, и в Тубинской землице! Лаской думаешь?
Яков Ефимович вскочил, грохнув обоими кулачищами в стол:
– Да что бы я там без сабель да пищалей сделал?!!
Воевода вздрогнул, а Перминов, аккуратно закрыв чернильницу и как обычно, не поднимая глаза, тихо заметил:
– Зачем шумишь, Яков Ефимович? Тебе-то что теперь? Теперь с нового воеводы спрос будет, и за тунгусов, и за новые земли.
Яков Ефимович свысока гневно посмотрел на дерзкого подьячего, но тот знал, в чём его сила.
– Ежели ты за недоимки переживаешь, – не глядя на Хрипакова, рассуждал подьячий, – что на тебе по учётным книгам насчитаны, то это дело не большое – я всё сделаю. Поезжай с Богом!
Хрипаков, раздувая ноздри, ещё какое-то время смотрел на подьячего, затем, видно совладав с охватившим его раздражением, сел на лавку.
Максим Максимович, дописав челобитную, свернул её, вложив в футляр из толстой кожи, передал Хрипакову. Тот задумчиво принял её, покрутил в руке и еле слышно буркнул:
– Значит, не договорились. Ничего – Фирсов за вами присмотрит пока я возвернусь.
С этим он встал и, не прощаясь, вышел, хлопнув за собой низкой, но тяжёлой дверью.
– Катерина! – Крикнул воевода. – Накрывай уж!
Перминов уже уложил свою сумку, немного помялся:
– Андрей Леонтьевич, может, по весне дашь мне людей да пойду я в тунгусы или даже в Братскую землю? Да всё одно куда идти! Тошно мне что-то в остроге сидеть. Надоело! Яков Ефимович упрямился – так может, ты отпустишь? Устал я от этих бумаг, чернил, перьев! – Он положил ладонь на закрытую сумку. – Воли хочу! В тайгу хочу!
Воевода пристально смотрел на внезапно взбунтовавшегося подьячего. Молчал.
– Пойду я, Андрей Леонтьевич, – не дождавшись ответа, Перминов встал и закинул ненавистную сумку на плечо, – мне ещё избу закрывать.
С тем и распрощались.
Максим Максимович сперва направился в съезжую избу – там согнал с лавки, заснувшего было, старого писаря, при деятельном Перминове превратившегося в служку-истопника; закрыл на огромный замок дверь – ключ себе за кушак; зашагал широким шагом мимо сонного стрельца, открывшего ему маленькую калитку в воротах, мимо тёмных спящих дворов с иногда мелькавшими в, затянутых бычьим пузырём, оконцах отблесками лучинок, прямиком на гудящий кабацкий двор.
6
В России между государством и разномастными винокурными заводами да «кружечными дворами» всегда были непростые отношения. Беспокоило, знаете ли, человеколюбивую царскую власть общее падение нравов, которое, безусловно, связывалось с этими берлогами различного порока. Тут тебе и карты – сатанинское служение (нет, чтоб в храм сходить и моли́товку за царское здоровье сотворить), и мордобой с поножовщиной (разве не на государевой службе или пашне следует силушку показывать?), и «блядни», конечно (куда ж без них) – Прекратить! Немедленно прекратить!
Вместе с тем выделка различных вин или, как говорилось – «винокурение», было предметом немалого дохода. Корчмари богатели на людском грехопадении и потому вызывали стойкое желание этот процесс контролировать. А что поделаешь?! Пусть лучше эти несчастные «питу́хи» свою копеечку на государево дело принесут, а не зазря «продуванят». Уж если пьянство не побороть, может и не стоит гнушаться выгод от него.
То запрещали великие князья да цари частные корчмы и винокурни, то разрешали, разными способами стараясь получить с этого побольше выгод в казну. Чего только не придумывала власть, чтоб не упустить такое выгодное предприятие: бывало, даже вне корчмы вообще пить запрещают, а вино варить уж только под государевым присмотром. Только люди всё одно уловки находят, чтоб ни один грошик казне не достался.
И так вертятся государевы люди и этак… Очередной раз, не сумев решить, как следует поступить лучше, завели кабаки царские – те тоже были не одинаковые. Одни заводили «на вере» – позволяя местным выбрать промеж себя человека подостойней и принуждая его давать особую клятву (вести дело честно, боясь гнева Господнего и Царского) при этом целуя крест, отчего и получал такой человек прозвище «целовальник»; другие же попросту давали «на откуп» – позволяли в принадлежащем Государю кабаке вести дела лицу частному, выплачивая в казну немалые, но строго указанные суммы. И конечно из недоверия, над всем этим ставили ещё и Кабацкого голову. Тот проверял специальные «кабацкие книги», следил, чтоб мужички вино по домам не варили и вне означенных мест не распивали, при этом денежку с зерни, карт да девок тихо делили с целовальниками да кабатчиками, считая это своим маленьким кормлением.
В Алексеевском остроге государев кабацкий двор был доверен целовальнику Филимону Михайлову – человеку в комплекции тучному, в словах льстивому, в суждениях грубому. Целовальником он был записан давно – ещё до Якова Ефимовича. Никто не избирал его, конечно, просто так сложилось, что в острожном кабаке хозяйничает именно Филимон… или в глаза – Филька.
Как и происходило обыкновенно – здесь собирался разный люд. За самым шумным столом гуляли необременённые службой казачки – проматывали остатки добычи с прошлых походов, надеясь на новые. Галдели, перекрикивали друг друга, иногда пели – в общем, вели себя прилично. Если дать волю кулакам хотелось, вываливались толпой наружу – таков порядок, нечего остальному народу мешать. Служилые да торговые людишки места меж собой не делили, только если кто поважнее пришёл, тому Филька и угол посвободнее найдёт и протрёт стол перед ним засаленной тряпкой. Пашенные да остяки с вогулами жались поближе к выходу, чтоб не донимать своим видом людей более достойных. Впрочем, особых различий тоже не делалось – такова обыденность сибирской жизни – все здесь под одним Богом ходим!
Воеводы в кабак обычно не заглядывали, если что надо, то всегда человека пришлют – было им, где от трудов праведных отдохнуть. Большие люди всегда и везде живут по своему усмотрению. Вино в Алексеевском остроге разрешено было варить только Филимону. Пить – где душе угодно, но покупать… покупать только в кабаке.
Сам же кабак становился к каждому вечеру главным местом общения острожан, отдыха, обсуждения новостей. Кто-то пил, кто-то играл, кто-то спорил, кто-то спал, уткнувшись носом в шапку на столе.
Ивашка-немчин сидел за столом с двумя торговыми и слушал в очередной раз байку про Лама-озеро:
– Вот ты думаешь, Ермак в Сибирь с Кучумом воевать пришёл? Вот уж фигу тебе, – разорялся седой купчина, привстав из-за стола и сунув лекарю свёрнутые в дулю пальцы прямо в нос. – Знал он, знал атаман, что за Уральским камнем есть это Лама-озеро. Его и искало казачье войско. А побратима его, Ваньку Кольцо за то и убили, что про то место он проведал!
Иван Яковлевич, разумеется, и не спрашивал у купчины ничего, но тому было неважно кому выкрикивать овладевшие его хмельной головой мысли. Купчина легко переходил с одного застольника на другого. Вот уже он кричит в лицо подсевшему к интересному разговору Петру Чуркину:
– Что ты мне скажешь? Что нет никакого Лама-озера? А откуда тогда Строгановы богатства свои завели? На соли только? Ермак им всё натащил! И государю Ивану Васильевичу богатствами поклонился, тем и прощение за свои прошлые делишки и выпросил.
Щуплый Пётр Игнатьевич возмутился:
– Да что ты в рыло мне кричишь? Про Лама-озеро все знают, только где оно? Это ты знаешь?
Купчина замолк и сел, качая пьяной головой, уткнулся взглядом в стол – он не знал… Никто не знал.
Лама-озеро место легендарное, в том смысле, что и о месте его нахождения и о том богатстве, которое лежит вокруг него, ходили легенды. Одни утверждали, что слышали о нём от своих отцов, другие – от великих праведников-пустынников, кои за своё духовное подвижничество узнали о нём от самих ангелов, третьи доказывали, будто бывали там сами. Лама-озеро было чем-то вроде библейской «земли обетованной» – туда стремились попасть и ждали от этого неземного счастья. Никто не знал где это, но каждый был уверен, что там горы, переполненные серебряными и даже золотыми жилами, а разного пушного зверя там столько, сколько до сих пор со всей Сибири не было собрано. От рассказчика к рассказчику сведения, конечно же, разнились: то золото не в жилах, а в самородках, то пушной зверь не весь в его округе живёт – только соболь с горностаем. Земля же – сплошь леса и равнины, никаких гор. Хочешь – хлеб засевай, хочешь – охоться. В самом же озере рыба – сплошной омуль.
– На восток идти надо, – очнулся купчина, – точно говорю. По Подкаменной Тунгуске на восток.
– Врёшь ты всё, – не верил ему Пётр Иванович. – На прошлую зиму ходил туда промысловый отряд. С питскими тунгусами жили – нет там ничего.
– Так они от устья на сто вёрст лишь отошли, – подключился второй торговый, Афанасий Казанцев, – дальше… дальше идти следовало.
– А другие говорят, что Лама-озеро стоит искать в верховьях Верхней Тунгуски, но там «брацкие люди» кочуют, не пройти там, – подключился к разговору Максим Максимович.
Афанасий не соглашался:
– Там есть ещё одна река большая, побольше даже Енисея. Тунгусы её Елюэнэ называют. Только волока на неё никакого нет. Если туда идти волок надо искать. И не бывал там из русских никто. Вот если по той реке вниз до устья пойти, то аккурат в Лама-озеро и попадёшь. Можно ещё по Подкаменной Тунгуске идти, только дальше надо – в самые верховья.
За соседним столом несколько стрельцов обговаривали завтрашние дела. Им предстояло отправиться вместе со своим сотником и Яковом Ефимовичем в Тобольск. Дорога была не простая: сначала к Маковскому острогу. Затем по занесённому снегом волоку перейти на реку Кеть. Затем мимо Кетского острога на Обь до Сургутского острога и уже оттуда по льду Иртыша в Тобольск. Предстояло нелёгкое дело. Нелёгкое и опасное. Десятник Фёдор Торопчанин, матёрый сибиряк наставлял своих подопечных:
– От устья Кети основной отряд дальше пойдёт, а Поздей Петрович назад вернуться хочет. Я с ним буду. Назад вдвоём идти будем налегке, чтоб быстрее было. А вам уж Якова Ефимовича провожать дальше придётся, может и до самой Москвы. Так что сейчас не пить вам здесь надобно, а идти бы и припасы, да всё остальное проверить.
Максим Максимович стоял рядом, от спора не отвлекался и язвил Афанасию:
– Елюэнэ твоя уже давно всем известна и называют её Лена. Ещё мезенские люди её нашли, а несколько лет назад и Пянда там был. Волока туда нет и вправду, но это дело наживное. Только и озеро какое-то огромное там тоже есть – Илья Тоболец да Ивашка Петлин рассказывали, что слыхали про озеро, когда к Алтын-хану послами ходили. Может это и есть Лама-озеро!
Услышав подьячего, десятник тоже вмешался:
– Не знаете вы, где искать… не знаете. Лама-озеро ещё дальше, за Леной. Огромное – что твоё море! Всё там есть… и золото, и другие руды полезные, а в самом озере выдра живёт, не чета нашей выдре – мех много гуще. И выдры той – не перемерено! А вокруг такие леса, где лоза по соснам вьётся! Вот так-то.
Взвыли какую-то заунывную песню перепившиеся казачки. Пели, обнявшись, о горькой казачьей долюшке, об острой сабле, да о молодой казачке. Что-то там было ещё о подлом атамане, но слова разобрать становилось трудно – будто некоторые казаки запели совсем другую песню.
Немец-лекарь, Иван Яковлевич, сидел за столом тихо, пил пиво (ему не нравилось русское пиво, но то, что здесь называли вином, нравилось ещё меньше); слушал эту кабацкую болтовню и думал о том, как в его родной Швеции считают, будто бы русским есть дело до разных Европ… будто с завистью глядят они на запад из своих берлог, но у тех русских, которых он знал – столько занятий, что большинство в другую сторону даже не смотрит – на востоке неизвестная земля, какие-то Алтын-ханы, Лама-озёра, реки… Реки вообще приводили шведа в замешательство. Нет, реки конечно в Швеции есть, такие же большие как Москва-река, но потом его повезли в Астрахань… по Волге! Иван Яковлевич, справился с полученным впечатлением от этой силищи. В конце концов, как человек образованный он смог объяснить себе, что в такой стране, какой по слухам, была Россия, может найтись и такая большая река как Волга. Почему бы и нет?!
Направляясь в Алексеевский острог из Астрахани, он видел много более мелких рек. Разумеется, река Тобол (говорили, что она в длину аж полторы тысячи вёрст, может и выдумывали, но шли по ней довольно долго), больше чем любая река в Швеции, но это всё же не Волга – второй такой быть не может, уж в одной стране точно! Затем Иртыш – то есть Волга не единственная большая река в России? Получается, что их две?! После этого они свернули на Обь! Потом была Кеть (снова полторы тысячи вёрст – всего-то). Теперь вот Енисей (его размерам лекарь уже не удивлялся), а сейчас они рассказывают, мол, где-то дальше есть какая-то Лена?.. Его больше не впечатляли размеры отдельных рек – швед поражался размерам всей России! Что за расстояния?!.. Безбрежная земля, она подобна кладовой или даже… сокровищнице, куда тянет всякого пройдоху и ловкача. Они приходят сюда и пропадают все – до единого. Бесконечные неизмеримые места. Вотчина варварских царей!.. Нашёлся бы ещё этим землям настоящий – по-европейски бережливый хозяин…
Усмехнулся своим мыслям лекарь: теперь ему вспомнилось, как ещё студентом он читал записки одного посла о своём путешествии в Московию и, как напугал тогда описанный случай с отмёрзшей, словно отрезанной, конской мошонкой. С ужасом думал он о судьбе и своей мошонки, когда пленённого его волокли за собой бородачи в тяжёлых меховых шапках.
Иван Яковлевич продолжал, морщась, пить своё невкусное пиво.
Крестьяне, закидывались горелым винцом, жаловались друг дружке на всяческое воеводское притеснение:
– Вот так и живём, – плакался один и них, – со всех сторон притесняемы. Филька вино варит и сбывает у себя втридорога. А воеводы только подсобляют. Вон Шубин – чёрт окаянный, велит, чтоб по подворьям медов и вин не ставили. А ежели случится к свадьбе или именинам, или даже к поминкам, на то челобитную подьячему нести да ждать – сколько того вина да на сколько дней выдаст.