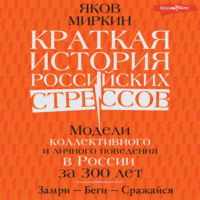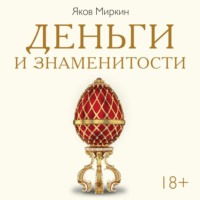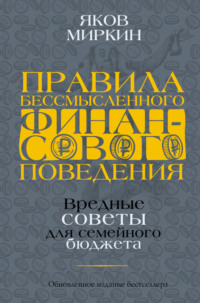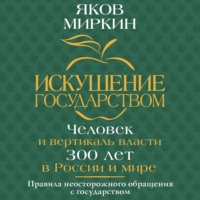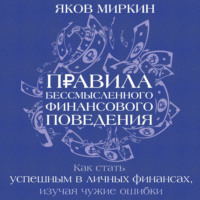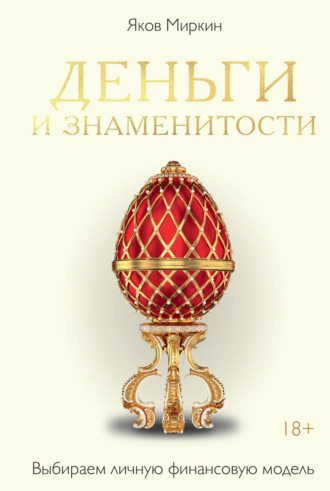
Полная версия
Деньги и знаменитости. Выбираем личную финансовую модель
А как же имение в Михайловском? Дойная корова? Во-первых, еще нужно выкупить доли у других родственников. Во-вторых, там безобразия и доходы почти нулевые. В-третьих, какое же это простенькое место! Вот выписка имущества для опеки: деревянный дом, 6 голландских печей, 14 окон, 3 кровати, 1 шкаф, 4 дивана, покрытых холстинкою, 8 стульев, 5 кресел, 18 глубоких тарелок, 10 чашек, 1 самовар и т. д. Зато 1 бильярдный стол (старый, с 4 шарами) и 2 ветхих ломберных. 4 флигеля, 2 амбара, 1 хлебный амбар, птичий двор и т. п. И еще старых коров 59 штук и гусей старых – 10 с остальной живностью. Мужских душ 71, женских – 98. Состояния измеряли живыми душами. 169 душ – очень мало, с них не прокормишься[39].
Всем нам хорошо знакомая ситуация. Сад и огород не выход. Ими можно, конечно, подкормиться. Но на них, как правило, не проживешь.
Деньги семьи?Так жить на что? Годовые расходы – 25 тыс. руб. (включая съем жилья, учителей, гувернеров). Пушкин оценивал их в 30 тыс. руб. Пенсион вдовы 5000 руб. + 4 детям по 1,5 тыс. руб. = 11 тыс. руб. (см. выше). Мать Натальи Николаевны давала ей некоторое время по 3 тыс. руб.[40] Потом отказала – семейство Гончаровых само в финансовых сложностях. От Полотняного завода, владений Гончаровых (там была большая фабрика), ей полагалось от брата (управлял) 1500 руб. в год, но шли они с огромными задержками, фабрика еле дышала. А она его забрасывала письмами.
Вот еще одно обычное письмо, она с детьми в Михайловском, погрязла в долгах, 1 октября 1841 г. «Дорогой Дмитрий. Я совершенно не знаю, что делать, ты меня оставляешь в жестокой неизвестности. Я нахожусь здесь в обветшалом доме, далеко от всякой помощи, с многочисленным семейством и буквально без гроша, чтобы существовать. Дошло до того, что сегодня у нас не было ни чаю, ни свечей, и нам не на что было их купить»[41].
Она приехала с детьми в Михайловское, провела там лето, поставила памятник на могиле мужа, перезахоронила его. Дмитрий – это брат Натальи Николаевны.
«Чтобы скрыть мою бедность перед князем… который приехал погостить к нам на несколько дней, я была вынуждена идти просить милостыню у дверей моей соседки, г-жи… Ей спасибо, она по крайней мере не отказала чайку и несколько свечей. Время идет, уже наступил октябрь, а я не вижу еще момента, когда смогу покинуть нашу лачугу».
Князь – Петр Вяземский. Соседка – Прасковья Александровна Вульф, в Тригорском, конфидентка Пушкина, мать двух дочерей, с которыми был больше чем флирт («Татьяна» и «Ольга» – Онегин).
«Что делать, если ты затянешь присылку мне денег дольше этого месяца? У меня… нет ни шуб, ничего теплого… Поистине можно с ума сойти, ума не приложу, как из этого положения выйти. Менее двух тысяч я не могу двинуться, ибо мне нужно здесь долги заплатить, чтоб жить, я занимала со всех сторон и никому из людей с мая месяца жалованья ни гроша не платила. Если это письмо будет иметь более счастливую судьбу, чем предыдущие, и ты… сжалишься над моей нуждой, то есть пришлешь мне денежную помощь, о которой я умоляла столько времени, то адресуй…»
Вспомним еще раз: из Михайловского она выбралась только за счет денег графа Строганова. Того самого, за чей счет хоронили Пушкина. Своего двоюродного дяди.
Со льдины на льдинуУ нее долги бесконечны. Она перезанимает деньги даже у своих слуг. После издания собрания сочинений Пушкина высвободилось до 50 тыс. руб. капитала. Берет проценты с них (2600 руб.) в свои доходы[42]. Просит опеку выделить ей еще 4000 руб., потому что дети растут и им пора нанять учителей[43]. Пытается не тратить этот единственный капитал (50 тыс.), чтобы он остался детям. Но тратить приходится, ежегодно дефицит наличности, по оценке, 4–8 тыс. руб. Это огромные для нее деньги.
Где взять бесплатное жилье? Почти два года (1837–1838) прожила у родственников в Полотняном заводе (текущие расходы – из своего кармана). Потом пару лет летними – осенними наездами в Михайловском («дача»).
Что еще? Она выкупает для детей и для себя Михайловское как единственный свой угол. Источник – все тот же, капитал от сочинений Пушкина. Выкуп длится годами, совладельцы спорят (сколько стоит одна живая душа, сошлись на 425 руб. ассигнациями)[44], а когда он происходит, крестьяне, ее крепостные, подписывают обязательство каждый год высылать ей 850 руб. (оброк вместо барщины), взамен пользуясь барскими землями[45].
Экономит не по-великосветски. Слушать музыку? «…Я послала узнать о цене на билеты. Увы, это стоило по 1 рублю серебром с человека, мой кошелек не в таком цветущем состоянии, чтобы я могла позволить себе подобное безрассудство. Следственно, я отказалась от этого, несмотря на досаду всего семейства, и мы решили благоразумно… отправиться на Крестовский полюбоваться плясунами на канате»[46].
Деньги – где только можно, лишь бы дать детям то, что они обязаны знать и уметь по своему роду и наследству. А потом вышла замуж по любви (лето 1844 г.) – стало легче, хотя и сложнее, когда родились еще трое детей и весь этот «детский пансион», с огромными затратами, радостно обрушился на нее.
Денежная модель Натальи Гончаровой. На памятьКак сумела прожить? Крутиться!
1. Взять все от государства, все, что оно может и должно дать.
2. Выявить и оценить все имущество, какое есть. Вытащить из залога.
3. Максимум доходов от родственников, законная доля имущества и доходов, если они есть.
4. Взять все, что можно, от родителей, пока жалеют и в силе.
5. Управляемый поток долгов от кого угодно. Очистился – займи снова.
6. Ищи то, чем можешь пользоваться бесплатно.
7. Бедность должна быть «благородной». Не стесняться настойчиво просить, спрашивать, теребить, подавать прошения – в рамках рациональности. Не быть чрезмерным. Не замкнуться. Быть отчаянным и эмоциональным, соблюдая между тем меру разумность, должный такт и надлежащее расстояние между собой и теми, от кого мы зависим.
8. Главные вложения – в счастье детей. Они должны получить все, что им следует для старта, по месту в обществе и ожиданиям.
9. Займись наследствами. Получи в них все, что можешь.
10. Отказывай себе, копи имущество для детей, их будущего.
11. Каждый семейный актив, если может, должен приносить доход.
12. Умное и экономное управление домашней жизнью (при первом муже, до 1837 г., кажется, что кто в лес, кто по дрова).
13. Найти ключевого человека, который, не принимая на себя полной ответственности, будет проводником в финансовых делах, заступником, советчиком и, главное, «кредитором последней инстанции», способным покрыть на время, не втягиваясь глубоко, кассовые разрывы.
14. Брак по любви – отличная финансовая машина. Женщину в нем пытаются приподнять.
15. Наталья Гончарова, искусный (правда, замученный) финансовый человек, желает вам состоятельности – со всеми особенностями вашей семьи, отличными от времени и обстоятельств ее жизни.
Александра Смирнова-Россет. Душка-капитал[47]

О. Бёрдслей
The Yellow Book. Volume XII. January 1897. Титульный лист.
Звезда светских салонов, легка, умна и черноока, к тому же фрейлина, радостно собирала вокруг себя могучих львов русской литературы. Гоголь «был у нас раза три один, и мы уже обходились с ним как с человеком очень знакомым, но которого, как говорится, ни в грош не ставили»[48]. «Пушкина кабинет был наверху, и он тотчас нас зазывал к себе… В этой простой комнате, без гардин, была невыносимая жара, но он это любил, сидел в сюртуке, без галстука. Тут он писал, ходил по комнате, пил воду, болтал с нами, выходил на балкон и привирал всякую чепуху насчет своей соседки-графини…»[49]
Кажется, куда больше? Но есть куда. «Гоголь обедал у меня с Крыловым, Вяземским, Плетневым и Тютчевым. Для Крылова всегда готовились борщ с уткой, салат, подливка с пшенной кашей или щи и кулебяка, жареный поросенок или под хреном»[50]. Сам Жуковский! «Я вздумала писать масляными красками деревья, но Жуковский меня обескуражил, сказав, что мои деревья похожи на зеленые шлафроки»[51].
А вот – апофеоз. Бал. «Государь мне сказал: “Зачем ты меня не выбираешь?” (по-русски он всегда говорил мне “ты”)»[52].
Пошла и принесиКакая приятная жизнь! В ней должен как-то участвовать народ. Он тоже действующее лицо, ему тоже нужно дать голос. Ау! А вот и он! Несчастный этот народ случайно оставил незашторенным окно, так что друг семьи смог узреть, как он выразился, «самое прекрасное на свете – девственную грудь» Александры Осиповны. «Я сгорела от стыда, стоя на пороге в белом пеньюаре. Лизе досталось, но так как вообще целомудрие не есть отличительная черта нашего народа, то Лиза спокойно отвечала: “Экая беда!” – “Ты мерзавка, ты жалуешься, что тебя Орест бьет, а я нахожу, что он тебя не довольно бил: ведь я знаю, что ты с Сашкой делаешь гадости, пошла вон и позови сюда M-me Мисси”. – “Ваша Миська будто лучше меня, она всякое утро бегает невесть куда”. – “Врешь, дура, Миська не такая свинья, как ты, она ходит купаться с моим позволением. Пошла, и принеси ящик с бриллиантами, и все, что я выбрала из сундука”».[53]
Мужские души – женское счастье«Пошла, и принеси ящик с бриллиантами!» Как-то не комильфо! Хотя А. О. очень ценит народ. Она не чает в нем души! Народ – это капитал.
Вот записи в дневнике:
«За ней он взял 8000 душ в Нижегородской губернии: торговое село Катунки приносило огромный доход…»[54] Село и нынче стоит в Нижегородской области, правда, народа там в 10 раз меньше, чем в прошлые времена. «Генерал Недобров был из любимцев императора Павла… Недобров получил 2000 душ, большая часть имения была в Васильевке Моршанского уезда»[55]. «Дмитрий Петрович оставил им по духовному завещанию 500 душ, часы, кубки и астролябию»[56].
Души, души, души! Мсье, какие у вас виды? «У Стефани 150 000 душ, прекрасные леса в Царстве Польском, имения в Несвиже и Кайданах, где у нее замки. А вы, мсье, собираетесь жениться или хотите устроиться иначе?»[57]
Как я сочувствую! «Бедная Березникова вышла замуж за Павла Алексеевича, потому что в Елманове было 500 душ незаложенных и была надежда получить частичку Картунова. У нее самой было 1000 душ; она была кроткая и приятная женщина, шла за него по приказанию отца и матери и не знала любви, не знала, что ждет ее от жестокого и тиранического мужа; даже не смела посвятить себя всецело детям»[58].
Речь, конечно, о мужских душах. Женские души в расчет не шли, они – при мужских. То есть живых, теплых людей в два с лишним раза больше во всех этих расчетах.
Души невиданный полетА что в это время с душами?
Они сидели на запятках. «Девке, которая сидела на запятках, велели крепче держаться за кисти, и карета пошла прыгать по крупным камням»[59].
«На другой день рано утром велела подать кофий, который нам принесла Татьяна. На вопрос, зачем не Пелагея, которая всегда одна варила, нам сказали, что она больна. Я тотчас догадалась, что время пришло ей родить, ее отвели в другую избу. Я не знала, что мне начать делать, ибо мы были совсем готовы выехать. Перед нами был переход в 20 верстах… Но Татьяна приходит и говорит, что она уже родила девочку, очень скоро и благополучно. Я удивлялась, как Бог милостив, что он, видно, покровительствует этих мерзких, но при том несчастных тварей. Я после начала хлопотать, как бы избавиться от ребенка, но все сделать скоро… Мне сказали, что есть молодая женщина, которая согласится ее взять. Ее привела старуха-мать, обе тотчас согласились, она просила 200 р., чтобы дала на бедность, и я дала 135 р., а Пелагею хорошо управили, положили в коляску, и мы поехали»[60].
Крепостной человекИ куда же мы все поехали? В 1905-й? В 1917-й? В «черные переделы»? В разгром усадеб, где жили так хорошо и светло? И вправду: «В тревоге пестрой и бесплодной большого света и двора я сохранила взгляд холодный, простое сердце, ум свободный и правды пламень благородный и как дитя была добра; смеялась над толпою вздорной, судила здраво и светло, и шутки злости самой черной писала прямо набело». Это Пушкин, «В альбом А. О. Смирновой».
Да, она была прекрасна. Мы все прекрасны. Но только если мы – плоть от плоти народа, кровь от его крови. Если всю свою жизнь соединяем с общей жизнью, если различаем каждого отдельного человека, пытаясь именно ему создать благо, когда жизнь всех зависит от каждого, а жизнь каждого – от всех, в какой бы точке общественного пространства он ни находился.
И это – не прописи. То, что произошло с Россией в XX веке, каждой строчкой доказывает – не может быть безличности, нет «народонаселения», есть общество людей, жизнь которых – каждого – должна быть отдельна и драгоценна.
Дело, конечно, не в Александре Осиповне, которая была и мила, и добра, и жизнь которой была, в общем-то, нормальна и играла яркими красками, хотя несчастий (муж, дети) она не миновала.
Дело в безличности, которое было общим убеждением тех, кто наверху. Что есть человек? Вопрос вопросов бытия. А вот ответ. «Крепостной человек Лука». «Ее человек Сергей Игнатьев». «Крепостной человек Карп, которого они звали Карпуней, что возбуждало смех других русских путешественников». «Ее препоручили человеку Николи, и его прозвали Парамоной, т. е. мамкой моей собачонки». «Человек Николай». «Человек мой Григорий». «Ей купили на рынке девку за 7 рублей». «Девка Гашка». «Конюшенная девка»[61]. Нужно ли напомнить, что в русских деревнях все звали друг друга по имени-отчеству?
«Мне надели белое платье с нескончаемым количеством мелких складок и розовый платок на шею, новые башмаки и сережки Дюка со змейкой мелких бриллиантов. Мы уселись так, что девка сидела в моих ногах с корзиной абрикосов»[62].
Сидела девка в моих ногах.
Жизнь наверху – хорошая жизнь. Но только тогда, когда мы всех именуем по имени-отчеству, бессознательно и безотчетно. И помним, что это мы им служим, а не только они нам. Все просто. Имя – отчество – нормальная, хорошая жизнь.
Денежная модель Лермонтова. Как погулять поручику[63]

О. Бёрдслей
The Savoy. July, 1896. Титульный лист.
Люди жили тогда не так долго, как сейчас, и к 20 годам должны были знать и уметь все, что нужно. В 1896–1897 гг. ожидаемая продолжительность жизни мужчин в Петербурге была 25 лет, в Москве – 23 года[64]. В начале XIX в. жили еще меньше. Даже у членов императорской фамилии век был ограничен. Александр I прожил 47 лет, Николай I – 58 лет, их братья великие князья Константин Павлович – 52 года, Михаил Павлович – 51 год. Так что нужно было успеть сделать как можно больше!
Сколько же труда нужно было вложить в человека, чтобы он к 20–22 годам стал действующим! Михаил Лермонтов в свои 20 лет (1834) знал как свои французский и немецкий языки, читал свободно по-английски, и есть свидетельства, что занимался латинским и греческим. Вот его стихи на французском (в переводе): «Вся жизнь моя лишь скорбный воз, что проклял я. Глаза без слез!»[65] Когда он сочинил это, ему было 16 лет. А рядом шедевр, признанный шедевр русской литературы: «Белеет парус одинокий в тумане моря голубом!..» Ему было 18 лет, он бродил по Петербургу – и вот, взял и написал.
Чтобы так случилось, нужно было иметь немецкую бонну, французских гувернеров и кучу частных учителей. Кстати, кто его научил музицировать? История умалчивает. 21 декабря 1830 г. в Московском университетском благородном пансионе, в 16 лет испытан в искусствах «Михаил Лермантов на скрыпке аллегро из Маурерова концерта»[66]. «После обеда Лермонтов позвал меня к себе вниз, угостил запрещенным тогда плодом – трубкой, сел за фортепьяно и пел презабавные русские и французские куплеты (он был живописец и немного музыкант)»[67]. Ага, курил, пел куплеты (и еще романсы), и не только скрипка, но и фортепьяно. Ему 22 года. Каждый, кто прошел мучительные испытания музыкальной школой, знает, что это труд – и не пара-тройка часов.
Что еще умел? Рисовать, лепить, писать масляными красками – это все от Бога, не вымученное. «Мишель был мастер делать из талого снегу человеческие фигуры в колоссальном виде… уже тогда рисовал акварелью довольно порядочно и лепил из крашеного воску целые картины; охоту за зайцем с борзыми, которую раз всего нам пришлось видеть, вылепил очень удачно, также переход через Граник и сражение при Арбеллах, со слонами, колесницами, украшенными стеклярусом, и косами из фольги»[68].
Танцы-шманцы? Кадриль, мазурка, контрданс, да что угодно. «Он… любил фехтованье, верховую езду, танцы, и ничего в нем не было неуклюжего: это был коренастый юноша, обещавший сильного и крепкого мужа в зрелых летах»[69]. Шахматы, бильярд, карты. В карты не влюблен, хотя мог сделать ставки, его так и не оконченная прозаическая вещь – «Штосс». В штосс как раз играли в «Маскараде»: «Я вижу, вы в пылу, готовы всё спустить. Что стоят ваши эполеты?» Шарады, маскарады, игры, остроты. «Лермонтов явился в костюме астролога, с огромной “Книгой судеб” под мышкой: в этой книге должность каббалистических знаков исправляли китайские буквы, вырезанные из черной бумаги, срисованные в колоссальном виде с чайного ящика и вклеенные на каждой странице…»[70]
Все это – умения, затраченное время. В Московском университете изучал историю и словесность. В университетском пансионе, ему 16 лет, – «нравственные, математические и словесные науки, с отличным прилежанием, с похвальным поведением и с весьма хорошими успехами»[71]. В формулярном списке о службе и достоинстве поручика Лермонтова, в 26 лет, вопрос: «Какие науки знаете?» Ответ: «…математику, тригонометрию, алгебру, историю, географию, фортификацию, ситуацию, военное судопроизводство и Закон Божий знает»[72].
Чем можно заняться во время стычки с горцами? Рассуждать. 1840 г., ему 26 лет. «Они стояли вместе с Лермонтовым спорили о философии Канта, из них один был убит». Сразу вопрос: «Для чего здесь стремятся удержать тех, кто не от мира сего?»[73]
Философ? Русский Байрон? Не от мира сего? Лермонтов был искусная «военная машина». Гусар, сабли, шпоры, кивер, полное обмундирование. Он же – пехотный поручик, высланный на Кавказ за дуэль, вооружен и опасен. Вот задел кого-то на лестнице: «Извините мою гусарскую шинель, что она лезет без спроса целоваться», – и продолжал быстро спускаться с лестницы, все по-прежнему гремя ножнами сабли, не пристегнутой на крючок, как делали тогда все светски благовоспитанные кавалеристы, носившие свое шумливое оружие с большою аккуратностью и осторожностью…»[74]
Исповедь Мартынова, того самого, – о Лермонтове, приятеле: «Ловок в физических упражнениях, крепко сидел на лошади… Я гораздо охотнее дрался на саблях. В числе моих товарищей только двое умели и любили так же, как я, это занятие: то были гродненский гусар Моллер и Лермонтов. В каждую пятницу мы сходились на ратоборство, и эти полутеатральные представления привлекали много публики из товарищей, потому что борьба на эспадронах всегда оживленнее, красивее и занимательнее неприметных для глаз эволюций рапиры»[75]. Эспадроны – это тупые сабли, на них учатся. Первая, еще не смертная, дуэль Лермонтова с французом – на рапирах, потом – выстрелами.
Искусство кавалериста? Этому нужно учиться. «Крепко сидел на лошади»! «Лошадей Лермонтов любил хороших и ввиду частых поездок в Петербург держал верховых и выездных. Его конь Парадёр считался одним из лучших; он купил его у генерала Хомутова и заплатил более 1500 рублей, что по тогдашнему времени составляло на ассигнации около 6000 рублей»[76]. По нынешним деньгам лошадка эта стоила больше 3,5–4 млн руб.
Войне учился сызмальства. «Когда Мишеньке стало около семи-восьми лет, то бабушка окружила его деревенскими мальчиками его возраста, одетыми в военное платье; с ними Мишенька и забавлялся, имея нечто вроде потешного полка, как у Петра Великого во времена его детства»[77]. В 25–26 лет Лермонтов – испытанный службист, с отличным военным образованием (Школа гвардейских подпрапорщиков в Петербурге, поставщик гусар в гвардейские полки), получивший многие высочайшие благоволения в высочайших приказах (1835, 1836, 1839).
Никогда «не был замечен слабым в отправлении обязанностей службы». Представлен за бои в Кавказской войне к ордену Св. Станислава III степени, ордену Св. Владимира IV степени с бантом, к «золотой полусабле» (1841). Из наградных списков: «Несмотря ни на какие опасности, исполнял возложенное на него поручение с отличным мужеством и хладнокровием, и с первыми рядами храбрейших ворвался в неприятельские завалы… Всюду поручик Лермантов, везде первый подвергался выстрелам хищников и во всех делах оказывал самоотверженность и распорядительность выше всякой похвалы. 12-го октября… пользуясь плоскостью местоположения, бросился с горстью людей на превосходного числом неприятеля, и неоднократно отбивал его нападения на цепь наших стрелков…»[78]
А искусство владеть и управлять людьми? В нем он только начинал упражняться. С 7 до 13 лет Лермонтов (Мишель, Мишенька и т. д.) стал крестным отцом 13 мальчиков, большей частью детей дворовых (Извлечения из метрической книги)[79]. Из формулярного списка 1841 г.: «За ним состоит Тверской губернии 150 и за бабкою в Пензенской губернии 500 душ крестьян»[80]. Напоминаю, что это только мужские души – умножьте на два. Леса, сады, пашни, тысячи десятин. А вот и продажа Лермонтовым и его бабушкой Е. А. Арсеньевой в 1839 г. села Дерново в Калужской губернии, «из дворовых людей и крестьян 168 душ, со всею к оным землею… лесом, прудом, рекою, мельницею, господским и крестьянским строением… за 84 000 ассигнациями…»[81] В нынешних деньгах – это больше 55 млн руб.
Помещик, гусар, а потом – по высылке – бесстрашный пехотный офицер, добросовестно тянущий лямку в армии. Гедонист, насмешник, участник сборищ и пирушек. Он же – по знатности – вхож в высший свет, модный поэт и, по общему признанию, наследник Пушкина, писатель в женских альбомах, всесторонне образованный в языках и искусствах. Человек то презрительный к другим, то прекраснодушный, с черными глазами, с живыми черными глазами, о них вспоминали все. И это он же, кто написал в своем последнем, 1841 году: «С тех пор как вечный судия мне дал всеведенье пророка…»
Какой сложносочиненный человек, в создание которого вложено несметное число труда и денег. Тот, кого уберегли от смерти в детстве – у него был личный врач. Даже в конце XIX века «из каждых 100 родившихся мальчиков только 70 доживали до одного года, 49 – до 20 лет»[82].
Кому он обязан этим трудом? Кому мы обязаны? «Мой родной внук Михайло Юрьевич Лермантов, которому по свойственным чувствам имею неограниченную любовь и привязанность, как единственному предмету услаждения остатка дней моих и совершенного успокоения горестного моего положения». Это из духовного завещания Елизаветы Алексеевны Арсеньевой, урожденной Столыпиной, на 4 года пережившей своего внука[83]. Есть «великие вдовы русской литературы», а это «великая бабушка». Именно ей он писал за три месяца до смерти, прощаясь, как обычно, в письме: «…Милая бабушка, будьте здоровы и уверены, что Бог вас вознаградит за все печали. Целую ваши ручки, прошу вашего благословения и остаюсь покорный внук М. Лермонтов» (20 апреля 1841 г.)[84].
Бог не вознаградил. Бог дал смертную печаль. Никакой покорности – одна только казнь. Как сделать, чтобы мы любили так, как нас любят? Как, чтобы до нас дошло, до самого живота (так раньше называли жизнь), сколько чужих жизней затрачено на нас? Что весь смысл жизни наших старших может быть уничтожен нашим бесстрашием, нашей абсолютной уверенностью, что с нами ничего не будет, нашим бессмыслием? Как, в конце концов, уберечь себя, не жертвуя ни долгом, ни душой?
Кем бы мы ни были, мы – те, кто нас создал, мы – плоть от их плоти, мы – их жизни, их умения, мы – дар их волшебного искусства сохранить и научить дитя. Каждый человек бесценен, он выткан из ста тысяч умений и искусств, он научен думать, говорить, он чудо – дыхания, думания, он – человеческое дитя, на которое нельзя поднять руку.
В Тарханах небольшой дом, поместье на тысячу крепостных, окна, смотрящие на закат, домашняя церковь, полная скорби по ушедшей дочери, и тень женщины, всех пережившей, оставившей в земле своего невероятного внука. В окна пробивается заходящее солнце, пруды леденеют, и наши шаги почти не слышны, раз навстречу идет тишина.
«Денежная модель» Лермонтова[85]Не был ни игроком, ни мотом, хотя деньги доставались легко, будто черпались из воздуха, и давали все возможности быть и в большом свете, и в бренных удовольствиях гусар и пехотинцев, когда дым коромыслом. Лермонтов в 26 лет? 245 рублей серебром жалованья пехотного подпоручика[86]. Это не жизнь, так – тягостное бытие, существование. Но у него есть секрет. «Нашей почтенной Елизавете Алексеевне сокрушенье – все думает, что Мишу женят, все ловят… Эта компания ловит или богатых, или чиновных, а Миша для них беден. Что такое 20 тысяч его доходу? Здесь толкуют: сто тысяч – мало, говорят, беден. А старуха сокрушается, боится большого света»[87]. Елизавета Алексеевна – это Арсеньева, «великая бабушка» русской литературы, души не чаявшая в единственном внуке, взявшая его от отца (мать умерла) на полный кошт и воспитание.