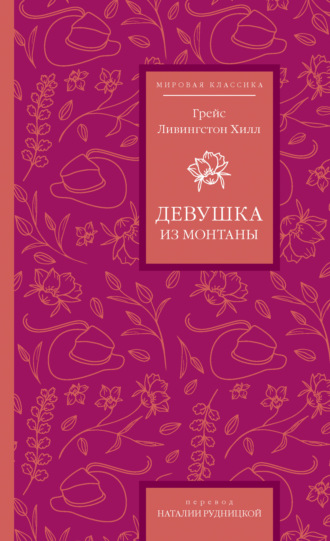
Полная версия
Девушка из Монтаны

Грейс Ливингстон Хилл
Девушка из Монтаны
Дизайн обложки Виктории Лебедевой
В оформлении обложки использованы материалы Shutterstock
© Наталия Рудницкая, перевод на русский язык, 2024
© Издание на русском языке, оформление. Livebook Publishing LTD, 2026
* * *Посвящается мисс Вирджинии Коуэн из Коуэна, Монтана, чьи душевные и живые письма помогли мне описать приключения Элизабет на Западе
Грейс Ливингстон Хилл: история личности как история автора
Судьба американской писательницы Грейс Ливингстон Хилл в целом не отличалась от многих других сложных женских судеб. В ней были и бесконечные переезды, и финансовые трудности, и вдовство, и развод, и бессонные ночи, проведенные в работе, чтобы прокормить семью, и борьба с раком на исходе жизни. Однако Грейс выросла в атмосфере сплоченности и поддержки, благодаря чему ей хватило сил и смелости пережить все, что выпало на ее долю, и стать одной из самых известных писательниц романтической литературы.
Грейс родилась в 1856 году в крошечном поселке Уэллсвилл, штат Нью-Йорк. Ее отца, пресвитерианского священника, преподобного Чарльза М. Ливингстона, дела церкви вели из города в город, а семья переезжала вместе с ним. Его жена, Марсия Макдональд Ливингстон, писала статьи для христианских журналов и романтические рассказы о периоде Гражданской войны. Именно мать привила Грейс литературное мировоззрение, а отец сформировал религиозное. Девочке дали разностороннее образование – она играла в шахматы, занималась спортом и верховой ездой, замечательно рисовала, помогала отцу в церкви и воскресной школе; вся семья не только изучала Библию, но и активно читала книги светского содержания, в том числе мировую классику. Это предопределило жанровое направление творчества Грейс.
В мир большой литературы девочку привела ее тетя, писательница Изабелла Макдональд Алден, – именно она первой опубликовала рассказ племянницы в своем журнале «Пэнси» в 1870 году. Уже через семь лет повесть Грейс вошла в цикл изданий для детских библиотек, а через год была издана первая полноценная книга «Идиллия Чаутоквы». Ее выход приурочили к ежегодным «сборам Чаутоквы», тогда еще молодого религиозно-образовательного проекта для взрослых. Первые шаги на писательском поприще оказались успешными – и на протяжении всего своего длинного творческого пути Грейс Ливингстон Хилл написала более сотни романов и множество рассказов.
В ее книгах часто поднимается тема поиска теплого семейного круга и верности идеалам – она писала о том, чем была полна ее собственная жизнь. Отец сам обвенчал ее с первым мужем, Томасом Франклином Хиллом. Когда Франклин заболел, родители перебрались поближе к Грейс и были рядом после его смерти. Когда вскоре скончался и сам преподобный Чарльз, мать осталась с дочерью и внучками, Рут и Маргарет. Второй муж Грейс, Флавий Джозеф Лутц, оказался бездельником, грубияном и гулякой. Христианское воспитание и убеждения Грейс взывали к терпению и смирению, а не к разводу, но терпеть человека, поддающегося искушениям, было выше ее сил, и она решилась аннулировать брак. Грейс продолжала писать – еще при жизни первого супруга она поняла, что только литература поможет ей зарабатывать деньги, находясь при этом рядом с детьми. Ее жизнь закончилась раньше творчества – последнюю книгу, «Мэри Арден», дописывала после смерти матери ее младшая дочь, Рут. Преемственность поколений семьи Ливингстон обеспечивали талантливые и решительные женщины.
Все обширное литературное наследие Грейс Ливингстон Хилл – это гимн христианской морали. Что ее первый вестерн «Девушка из Монтаны», что романтическая история скитаний «Тайна Мэри», что написанная в соавторстве с Элизабет Бут книга о подвигах женщин из Армии спасения призывают читателя следовать простым законам бытия: твори добро, не твори зла, работай над собой.
Ее книги могут показаться немного наивными – их герои неизменно религиозны и добродетельны (либо становятся таковыми), их преследуют соблазны и перипетии судьбы, а в конце добродетельность обязательно вознаграждается, и читатель наслаждается счастливой – или хотя бы вселяющей надежду – концовкой истории. Однако эти книги – зеркало эпохи, периода, когда после Гражданской войны людям хотелось верить в некую высшую справедливость и хорошую жизнь не только в перспективе обретения Царствия Небесного, но и здесь, на земле.
Ее душещипательные сюжеты показывают, как искренне, как уверенно и как ровно может сложиться писательская карьеры женщины, выросшей в небогатой, но здоровой и сплоченной семье. Ее истории и персонажи разительно отличаются от историй и персонажей тех авторов, которые жили с душевным надломом, с семейной травмой, с одиночеством ребенка в мире взрослых, и на примере Грейс Ливингстон Хилл замечательно видно, как среда формирует автора. Ее истории драматичны, но ее злодеи не страшны. Ее праведники непоколебимы, но полны обычных человеческих чувств. Романы Хилл наполнены той простотой, которой не хватает в наше динамичное время, в эпоху высоких технологий и доступной психотерапии, в творческой реальности, сформировавшейся после Джойса и Достоевского, Абэ и Кафки. Нам, за спиной у которых постмодерн и акционизм, освоение космоса и телемедицина, не помешает иногда мысленно оказаться в незатейливой истории со счастливым концом, где вечные ценности десяти заповедей поданы в простой форме, где нет неоднозначных выводов о моральном облике героев, а есть только добро, которое в конце концов обязательно побеждает зло.
Дарья Ивановская, редакторГлава 1. Девушка и великая скорбь
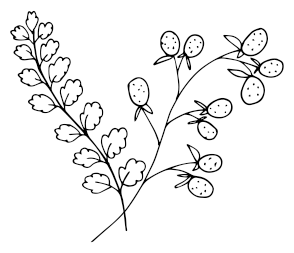
Девушка осторожно вышла из-за угла и заглянула в открытую дверь убогого домишки, залитого ярким послеполуденным светом.
На лице ее были написаны и отвага, и страх. Перед ней стояла задача, и она намеревалась выполнить ее. Прикрыв глаза от солнца ладошкой, она решительно ступила на порог и, одним быстрым взглядом убедившись в том, что здесь ничего не изменилось со времени ее ухода, вошла в свой дом. На какое-то мгновение остановилась, дрожа, посреди комнаты.
Перед ее внутренним взором возникла череда похоронных процессий, начинавшихся от этого порога, и она вгляделась в следы последней, недавней, той, которая не была освящена ни одной молитвой.
Девушка зажмурилась и даже прижала к сухим, горячим векам холодные пальцы, но от этого картина стала еще отчетливее.
Она видела свою крошечную сестренку, как та лежит посреди этой комнаты, такая маленькая, бледненькая бедняжечка, она видела красавца-отца – по такому случаю трезвого, – сидевшего в изголовье грубо сколоченного гробика, видела рядом с ним измученную, состарившуюся раньше срока, утратившую всякие надежды мать, которая даже не могла плакать. Но это было давно – в самом начале всей этой истории.
Были другие похороны – маленького братика, который утонул, играя в реке, к которой детей обычно не подпускали, старшего брата, который отправился на поиски богатства или, может, своего собственного пути, а потом, истерзанный лихорадкой, вернулся умирать на материнских руках. Но все эти похороны казались девушке, боязливо озиравшейся посреди опустевшей лачуги, давними, далекими. Память о них вытеснили похороны недавние: на этот год пришлись три смерти. Похороны отца, у которого даже в самые худшие его моменты находилось доброе слово для нее и для матери: его, покалеченного – он упал с лошади, столкнувшись в опасном, нехорошем месте с дикой отарой, – в беспамятстве принесли домой, и он так и не пришел в себя.
Всех их торжественно сопровождал в последний путь какой-нибудь случившийся поблизости странствующий проповедник, а если таковых не оказывалось, то молитву читала смертельно бледная мать, проговаривала дрожащими, непривычными к такому делу, но упрямыми губами. Мать всегда настаивала на священнике, ну и, конечно, на молитве, которая служила чем-то вроде заклинания, которое поможет усопшим обязательно попасть в пусть и убогий, но все же рай.
А когда через несколько месяцев после отцовской смерти мать, постепенно слабеющая и бледнеющая, вдруг схватилась за сердце, легла, задыхаясь, еле-еле проговорила: «Прощай, Бесс! Девочка моя любимая. Помни меня», и навсегда покинула свою тяжкую, полную разочарований жизнь, готовить похороны девушке помогал единственный оставшийся в живых брат. И уже ее губы шептали молитву. «Отче наш», – повторяла она слова, которым научила ее мать, потому что кроме нее произнести эти слова было некому: она побоялась отправлять непутевого братца на поиски священника, ибо он наверняка не поспел бы в срок.
Прошло полгода с тех пор, как печальная процессия пронесла гроб матери по зарослям шалфея и полыни к месту последнего упокоения – рядом с мужем. Все эти полгода девушка следила за порядком в их домишке и за тем, чтобы непутевый братец ходил на работу и с работы домой. Но в последние несколько недель он все чаще и чаще оставлял ее одну на весь день, а то и на несколько дней, и возвращался пьяным с компанией таких же развеселых молодцев, которые внушали ей настоящий ужас. И вот два дня назад эти же приятели привезли на его же собственном верном коне тело брата: на месте сердца у брата были две дырки от пуль. Все из-за пьяной ссоры, сказали они, жаль, конечно. Кто именно стрелял, они не сказали.
По-своему они были добры, эти приятели. Они остались с ней, сделали все, что положено, вырыли могилу и в некоем подобии печального ритуала обошли кругом гроба, заглядывая в лицо почившего, но когда она попыталась прочесть молитву, которую прочла бы мать, то не смогла выдавить ни звука, язык словно присох к небу. Она убежала в свою каморку и оставалась там, пока лихие приятели выносили неподвижное тело того, кто был последним членом ее семьи.
Процессия проделала путь к тому месту, где были похоронены остальные. Они уважили ее бесслезное горе, эти обычно шумные, бесшабашные парни. Они приберегли для себя грубые шуточки, которые обычно помогали им в требовавшие почтения моменты, шли медленно, молча, время от времени восхищенно оглядываясь на тоненькую фигурку, которая шла за ними словно сомнамбула – с каменным лицом, с сухими немигающими глазами. Они чувствовали, что надо что-то предпринять, но что именно, никто не знал, и потому молчали.
И только один, самый смелый и решительный, явный лидер их компании, приотстал и спросил, могут ли они что-то еще для нее сделать – все что угодно, но она оборвала его холодным и резким «Нет!». Вот ведь, а он-то правильно поступил, хорошо, он-то с ней по-доброму! И он резко отвернулся со злобным огоньком в глазах, но она этого не видела.
Когда это подобие похоронной церемонии было завершено, последний ком земли упал на невысокий холмик, непременное «прах к праху» произнесено самым из них решительным, они все повернулись к девушке, которая все это время стояла возле свежего холмика и молча смотрела на них, словно статуя Скорби, молчаливо взирающая на мир. Они никак не могли ее разгадать, эту молчащую, будто высеченную из мрамора девушку. Они думали, что уж теперь она как-то изменится. Все ведь позади! Сами они чувствовали облегчение оттого, что их развеселый дружок уже не лежит перед ними холодный и бессловесный. Ну все с ним, все! Последний долг они отдали, пора забыть. Теперь ему самому платить по небесным счетам, а у них и своих забот хватает.
И вдруг по лицу девушки пробежал огонек жизни, сделавший это лицо на мгновение прекрасным, и она медленно, почти неохотно поклонилась им – наклонила голову и простерла руки словно пытаясь благословить их, но не осмеливаясь, и четко произнесла: «Спасибо вам… всем». Она как бы слегка дрогнула перед «всем», при этом с сомнением и неприязнью глядя на вожака, но все же произнесла это слово, поступив как до́лжно, и, повернувшись, быстрым шагом направилась обратно к дому.
Их, этих мужчин, не боявшихся ничего и никого на Диком Западе, захватили врасплох. Затем послышались слова, не все из которых ласкали слух: если б девушка услыхала хоть что-то, она бы еще больше ускорила шаг, а щеки ее раскраснелись бы еще сильнее.
Но один из них, самый смелый, вожак, промолчал. Он нахмурился, в глазах его вспыхнул злобный зеленый огонь. Он отделился от остальных и сначала спокойно, затем все быстрее направился к месту, где они оставили лошадей. Вскочил на свою и тронулся в сторону домика с таким видом, что остальные не посмели за ним последовать. Их голоса затихли вдали, а в его глазах по мере приближения к цели уже загоралось коварство.
Девушка действовала быстро. Один за другим она вышвырнула из дома ящики, на которых стоял грубо сколоченный гроб брата. С силой растолкала по привычным местам сдвинутую мебель – как будто старалась уничтожить, стереть из памяти то, что здесь недавно происходило. Взяла висевшее на крючке братнино пальто, его лежавшую на каминной полке трубку и спрятала в своей комнате. Затем огляделась: все ли сделано или еще что-то осталось?
В залитом солнцем дверном проеме возникла тень. Она повернулась – это был тот, кого она считала убийцей брата.
– Я вернулся, Бесс, посмотреть, чем могу быть тебе полезен.
Говорил он по-доброму, но у девушки перехватило дыхание, и она непроизвольно прижала руку к горлу. Как бы ей хотелось высказать все, что думает, но она не посмела. Не позволила даже мысли об этом отразиться в ее глазах. Она снова напустила на себя тот непроницаемый вид, с которым стояла возле могилы. Он решил, что она окаменела от горя.
– Я же уже сказала, что помощь не нужна, – проговорила она, стараясь, чтобы голос ее звучал так же безжизненно-ровно, как и когда она благодарила друзей брата.
– Я понял, но ты осталась совсем одна, – произнес он вкрадчиво, и ей стало страшно от этих слов. – Мне просто жалко тебя.
Он подошел ближе – лицо ее сохраняло холодное спокойствие. Она инстинктивно глянула на дверь кладовки, где лежал ремень брата с двумя пистолетами в кобуре.
– Вы очень добры, – сказала она, сделав над собой усилие, – но сейчас мне лучше побыть одной.
Как же трудно было ей говорить вот так ровно и отстраненно – больше всего на свете ей хотелось наброситься на него с проклятиями, но она просто смотрела в это лицо, лицо зла, и страх куда больший, чем страх смерти, подкрался к ней.
Ее мягкое достоинство только подхлестнуло его. Откуда она набралась этих царственных манер, она, рожденная в горной лачуге, выросшая в глуши? Почему ее произношение так отличалось от говора тех, кто ее окружал? Братец у нее был совсем не такой, мать была женщиной простой и тихой. Отца он не знал, потому что появился здесь недавно – скрывался в этом штате, поскольку был в розыске в другом. Человек с большим опытом, он дивился ее дикой, надменной красоте – и злорадствовал: ему нравилось думать, что она в его воле, что он может воспользоваться ее беззащитностью.
– Ничего хорошего в том, что ты совсем одна, нет, сама знаешь, и я пришел тебе на защиту. Кроме того, тебя нужно подбодрить, малышка. – Он придвинулся ближе. – Ты же знаешь, Бесс, ты мне нравишься, и я намерен позаботиться о тебе. Ты совсем одна, бедняжка!
Он стоял так близко, что она почувствовала на щеке его дыхание. Смертельно побледнев, она прямо смотрела на него. Неужели не найдется ничего на земле и в небесах, чтобы спасти ее? Мать! Отец! Брат! Никого не осталось! Ах! Если б она знала, что ссора, закончившаяся гибелью брата, вспыхнула из-за нее, возможно, гордость за брата умерила бы ее скорбь и отчаяние.
Глядя в зеленый огонь, полыхавший в его адском взоре, она собрала все свои юные силы и заставила себя хранить спокойствие. Она не отпрянула в ужасе от этого человека, а сделала лишь небольшой, спокойный шажок назад – так могла бы вести себя женщина много опытнее и получившая куда более светское воспитание.
– Напомню, – сказала она, – что мой покойный брат лежал вот здесь совсем недавно, – и она указала на середину комнаты. Это напоминание прозвучало будто обвинение стоявшему перед ней мужчине. Он отступил, как если бы в этот момент в комнату вошел шериф, непроизвольно глянул туда, где совсем недавно стоял гроб, нервно рассмеялся, затем снова собрался.
Девушка набралась смелости. Ей удалось сдержать его сейчас, но сможет ли она удерживать его и дальше?
– Подумайте сами! – сказала она. – Его только что похоронили, и разве можно говорить о любви в той же комнате, откуда вынесли его гроб? Пожалуйста, дайте мне побыть какое-то время одной. Я не могу сейчас ни говорить, ни думать. Вы же знаете, мертвых следует уважать, – она с мольбой смотрела на него: отчаяние придавало ее игре достоверность. Она словно пыталась усмирить льва или безумца.
Он был восхищен – ох, умна! Он уж было собрался возразить ей, высмеять ее, потому что вспомнил, какой взгляд был у ее брата за мгновение до того, как он выстрелил в него, однако в ее просьбе ему послышалось и обещание. Да, эта не из тех девиц, которых легко завоевать. Будет стоять на своем, и, может, даже и лучше дать ей время поупрямиться. Такая игра куда интереснее.
Она увидела, что ее трюк срабатывает, и задышала свободнее.
– Уходите, – произнесла она с намеком на улыбку. – Уходите. На время, – и снова попыталась улыбнуться.
Он шагнул вперед с намерением обнять и поцеловать ее, но она резко отступила и вытянула вперед руки, отстраняясь.
– Я же сказала, сейчас вам лучше уйти. Ступайте, ступайте, а то я никогда больше не стану с вами разговаривать.
Он глянул в ее глаза и почувствовал в ней силу, которой не мог не повиноваться. Он угрюмо отошел к двери.
– Однако, Бесс, так с друзьями не поступают, – сказал он с укоризной. – Я пришел, чтобы позаботиться о тебе, сказал, что люблю тебя, что хочу быть с тобой. У тебя никого другого нет…
– Замолчите! – вскричала она трагическим голосом. – Неужели вы не понимаете, что так нельзя? Брат только что умер. Мне нужно время, чтобы его оплакать. Этого требуют приличия!
Теперь она стояла, прислонившись к двери кладовки, в которой лежали два пистолета, и за спиной нашаривала деревянную щеколду.
– Вы совсем не уважаете мое горе. – У нее перехватило дыхание, она прикрыла рукой глаза. – Как я могу вам верить, если вы совсем меня не слушаете?
Это остановило мужчину. Он был покорен тем, что она вот-вот расплачется – надо же, что-то новенькое, трогательная слабость. Очаровательно!
– И как долго прикажешь ждать? – сдался он.
Она почувствовала такое отчаяние, что не могла вымолвить ни слова. О если б она осмелилась выкрикнуть ему прямо в лицо: «Вечность!» Если б она могла добраться до пистолетов и выстрелить – это был бы самый меткий выстрел на всем Тихоокеанском побережье. И самый безумный.
Она прижала пальцы к вискам в попытке что-то придумать. Наконец и она сдалась:
– Три дня.
Он тихо выругался и грозно сдвинул брови. Она вздрогнула, поняв, каково это будет – оказаться всецело в его власти. Он натешится ею и выбросит прочь. Или просто убьет, когда она ему надоест! Жизнь в горах научила ее распознавать зло.
Он снова приблизился к ней, и ей показалось, что земля уходит у нее из-под ног. Выпрямившись, она холодно произнесла:
– А сейчас вам следует уйти, и не думайте возвращаться по крайней мере до завтрашнего вечера. Идите!
И она улыбнулась ему – открыто, смело. Как ни странно, он отступил и уже в дверях повернулся и спросил:
– Можно поцеловать тебя на прощание?
Она непроизвольно вздрогнула, но протестующе выставила руки и, покачав головой, опять с улыбкой произнесла:
– Нет, не сегодня!
Он ушел, вроде бы поняв ее, но явно недовольный. Она уже было решила, что все кончено, но услышала его шаги со двора – он снова направлялся к дому. Она метнулась к порогу, чтобы встретить его: нельзя позволять ему снова войти! Ну почему она сразу не заперла за ним дверь? Она застыла на пороге, а он уже было занес ногу, чтобы этот порог переступить. Сейчас, в ярком солнечном свете, она ясно видела, какое коварное у него лицо.
– Ты сегодня ночью будешь совсем одна.
– Я не боюсь, – спокойно ответила она. – Никто меня не потревожит. Разве вы не знаете, что в первую ночь после похорон дух человека является в свой дом? – она чуть было не произнесла «убитого человека».
Это была ее последняя отчаянная попытка.
Стоявший перед ней вздрогнул и нервно оглянулся.
– Тебе лучше сегодня уйти отсюда со мной, – сказал он, отступая от входа.
– Солнце садится. Вам пора, – произнесла она величественно, и он взобрался на свою резвую лошадь и ускакал по горной дороге.
Она глядела вслед его силуэту, четко вырисовывавшемуся на фоне кроваво-алого солнечного диска, который опускался все ниже и ниже. Она видела обвислые поля его шляпы, видела мускулистый торс, когда он обернулся посмотреть на нее, все еще стоявшую на пороге. Он и сам не мог понять, почему вот так уехал, однако уехал – и хмурился всю дорогу. Ну ничего, злобно подумалось ему, он еще вернется.
Наконец он исчез вдали, а девушка подняла глаза к небу, на котором уже показалась призрачная бледная луна. Она осталась одна.
Глава 2. Побег
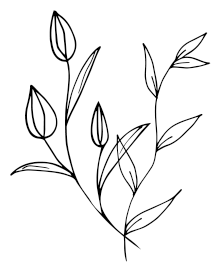
Страх отступил, когда девушка поняла, что будет одна и по крайней мере на несколько ближайших часов свободна. Спаслась! Но все равно она слышала отзвук его последних слов, видела мерзкую улыбочку, когда он помахал ей на прощание и пообещал завтра вернуться.
Она была уверена, что дожидаться ночи он не станет. Да он и сейчас еще может вернуться. Она снова вгляделась в темнеющую дорогу, прислушалась – топот копыт затих вдали. Надо спешить. Он дрогнул, когда она заговорила о призраке, но вполне может набраться смелости. Ее передернуло при мысли, что он может вернуться ночью. Бежать, бежать!
Все ее замершие было чувства обострились. Перед мысленным взором проносились самые невероятные планы. Она вошла в дом, заперла на засов дверь. Она двигалась быстро, ни минутки терять было нельзя. Кто знает? Он может вернуться до того, как окончательно стемнеет. Его трудно провести, он опасен. Единственный шанс – убраться отсюда как можно скорее, сбежать, спрятаться.
Первым делом она взяла из кладовки ремень и закрепила его на талии. Достала и зарядила пистолеты – у нее даже дыхание перехватило, когда она увидела, что пистолеты не были заряжены и что, если б даже ей и удалось до них добраться, никакой пользы они бы ей не принесли.
Она вставила в прикрепленные к ремню ножны острый нож брата и начала собирать провизию. Запасы вышли скромными – немного вяленой говядины, кусок сыра, кукурузная крупа, шмат солонины, горсть дешевых кофейных зерен, черствый кукурузный хлеб. Помедлила возле котелка с вареными бобами – тащить его с собой будет, конечно, неудобно, но взять все-таки стоит. Больше ничего такого в доме не было – их припасы истощились, потому что в последние несколько дней ей было не до хозяйства. В эти дни она о еде и не думала, но сейчас вспомнила, что за весь день у нее маковой росинки во рту не было. Она заставила себя съесть несколько кукурузных сухарей, запить кофе, который еще оставался в кофейнике – ела она на ходу, не теряя времени.
В доме нашлось несколько старых мешков из-под муки. Она уложила припасы в два мешка, котелок с бобами поставила на самый верх, надежно все завязала. Затем направилась в свою комнатушку и оделась еще в несколько дополнительных одежек – гардероб у нее и так был небогатый, а это был самый удобный способ его транспортировки. Надела на палец материнское обручальное кольцо, которое хранила в шкатулке как святыню, перед этим склонив голову и словно попросив у матери разрешения. Это была символическая точка, означающая конец ее жизни в этом доме, а само кольцо будет охранять ее в жизни будущей.
Еще обнаружилось несколько бумаг и пожелтевших от времени писем – мать тщательно их оберегала. Одно было свидетельством о браке, а что лежало во втором, девушка не знала. Она никогда в него не заглядывала, но знала, что мать очень берегла его. Все это она приколола булавкой к лифу ситцевого платья, с изнанки. Теперь она была полностью готова.
Она окинула последним быстрым взглядом дом, в котором провела всю жизнь, взяла оба мешка, сняла с крючка старое отцовское пальто; вспомнив в последнюю минуту, сунула в его карман несколько спичек и единственную остававшуюся в доме свечку, вышла из дома и прикрыла за собой дверь.
Постояла, глядя на дорогу, снова прислушалась – все было тихо, только где-то в отдалении раздавался волчий вой. К этому времени луна поднялась высоко, светила ярко, и в этом мягком серебряном свете ей было не так одиноко, как в домике, где неровно горела лишь одна свеча.
Девушка торопливо проскользнула через освещенный луной двор в тень полуразрушенного амбара, где переминался с ноги на ногу тощий верный конь, на котором брат совсем недавно отправился навстречу погибели. Девушка двигалась неслышно, как кошка.



