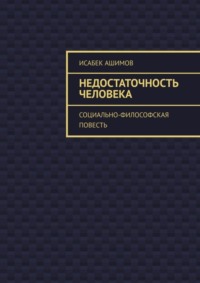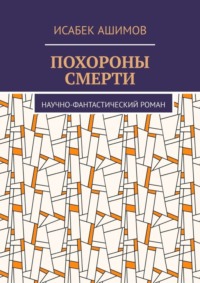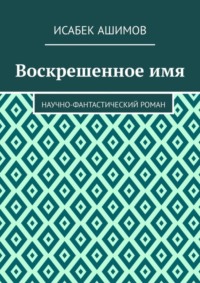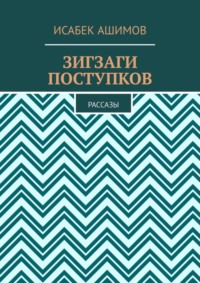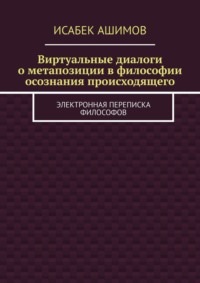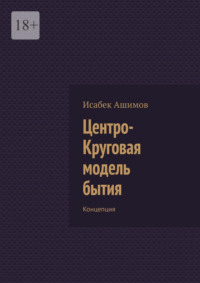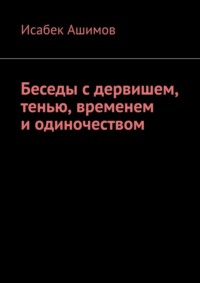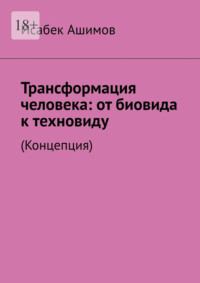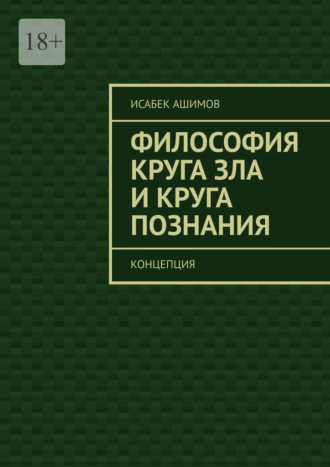
Полная версия
Философия круга зла и круга познания. Концепция
В чем же заключается задача мифотворчества? Прежде всего, в том, чтобы доказать, что Миф является моделью воплощения идеала, мечты, и содержит конкретные возможности их воплощения в реальность. По З. Фрейду – это «удовлетворение сильного влечения, не избегая творческих мук, умение творить идеальные представления, и умение воплощать их в реальность». Другой задачей Мифа является обретение «родного мифа», с помощью которого тот или иной человеку может совершить путешествие в глубину своей психики, обрести внутри собственной необъятной психики «родную территорию», и там ощутить свою духовную ось, уходящую в глубину древа рода. Так оно и было при формулировании мифа о Тегерек [Ашимов И. А. (Кара Дабан). Тегерек. Философский роман-аллегория. – Бишкек, 2014. – 217 с.].
М. Элиаде (1907—1986) в своей монографии «Аспекты мифа» (1995) подчеркивает, что миф следует понимать не как сказку, вымысел или фантазию, а так, как его понимали в первобытных сообществах, где мифы обозначали подлинные события. Миф следует определять через его содержание. Миф излагает сакральную историю, повествует о событии, произошедшем в достопамятные времена «начала всех начал» [Элиаде М. Аспекты мифа / Пер. с фр. В. Большакова. – Инвест-ППП, 1995]. В этом аспекте, наш миф рассказывает, каким образом реальность, благодаря подвигам тех или иных героев, достигла своего воплощения и осуществления.
По сути, любой миф – это некий рассказ о некоем «творении», нам сообщается, каким образом что-либо произошло, и в мифе мы стоим у истоков существования этого «чего-то» [Чернышов А. Современная советская мифология. – Тверь. 1992. – С.14]. С мифом о Тегерек было несколько иначе. Были ли хотя бы отголоски этого мифа, никто не знает. Да и истории Тегерек, как таковой не было. Но важно было из обрывков фраз и слов, осколков картин и образов, неких намеков на скрытые смыслы составить такой миф [Ашимов И. А. (Кара Дабан). Тегерек. Философский роман-аллегория. – Б., 2014. – 217 с.].
Итак, на первый взгляд ничего связанного и цельного не было, все было совсем наоборот – бессвязно, сумбурно. Но во всех элементах истории уже присутствует важный связующий взаимной соподчиняющий фактор. В этом плен, все элементы истории соответствуют идее, времени и пространству этого мифа. Между тем, это прообраз искусственного саркофага, Ажыдар-сая, кара-камара, ажыдара, его аллегорического двойника – Чернобыльского саркофага. В обеих случаях присутствовали не только символы абсолютного зла, но и истории борьбы Добра и Зла.
Если проследить «траекторию» повествования любого мифа – то это отрывочные, разрозненные, смутные обрывки элементов истории, которая во многом воспринималась как сказка. В этом аспекте, хотелось бы сказать, что любой миф начинает свое существование как индивидуальный [Тогусаков О. А. Мир понятий: от мифа к теории. – Бишкек: Илим, 2003. – 145 с.]. Миф возникает как мнение у конкретного человека о своем отношении к чему-то. Человеку свойственно делится своим мнением с окружающими и в процессе попытки поделиться может выясниться, что, во-первых, неинтересен объект мнения; во-вторых, мнение не понятно; в-третьих, мнение не исчерпывающе; в-четвертых, мнение не самодостаточно.
В случае ли многочисленности субъектов обсуждения возникает необходимость в формировании интереса к сути мифа: во-первых, возможность однозначной интерпретации содержания мифа; во-вторых, возможность чрезмерно прямолинейного понимания сути мифа. В этой ситуации для того, чтобы рассказать «о чем-то», необходимо «этому» дать имя. В результате появляется: во-первых, повествователь мифа; во-вторых, название мифа; в-третьих, слушатели или интерпретаторы мифа.
Из истории мифотворчества известно, чтобы миф оживет если: во-первых, его осмыслить на уровне философии; во-вторых, провести философский эксперимент; в-третьих, описать и закрепить на уровне теоретического обобщения. При этом нужно преодолеть целый ряд ступеней мышления: формально-схематическое; системно-механистичное; категориальное; целостное; композиционно-сценическое; символьно-метафорическое; знаково-сигнальное; сновиденчески-мифологическое [Элиаде М. Аспекты мифа / Пер. с фр. В. Большакова. – Инвест-ППП, 1995].
Общеизвестно, что миф раскрывает действенную активность виртуальных героев и обнаруживает сакральность их деяния. То есть миф описывает различные, иногда драматические, мощные проявления священного в этом мире. В этом плане, зная, что миф о Тегерек никогда не был сформулирован, трудно согласится с тем, что миф говорит о происшедшем реально, о том, что себя то самое «что-то» в полной мере проявило. Если говорить о мифологическом времени, то любой миф или легенда переносит нас в сакральное время, когда переживание событий в качестве реальных, происходящих сейчас и здесь, затмевает эмпирические время и пространство [Тогусаков О. А. Мир понятий: от мифа к теории. – Бишкек: Илим, 2003. – 145 с.].
Время мифа о Тегерек – это время сакской цивилизации, когда роды и племена, обитавшие в своих исторических местах еще проповедовали не то заростризм, не то тенгрианство. Как известно в них течение времени – это бесконечное чередование начал и концов мира, умирания и воскрешения природы, бесконечность Добра и Зла, а цикличность упорядочивает течение времени и само строение мира, пребывающее в равновесии Добра и Зла. В этом аспекте, вневременным сознанием эмпирическое настоящее перемешена с мифологическими истоками и представляет «безвременье» [Мелетинский Е. М. Миф и двадцатый век // Избранные статьи. Воспоминания. – М., 1998. – С.421]. Мифологическое время именно этим отличается от объективно-космического, исторического или психологического времени.
Таким образом, в мифе время не разделено на настоящее, прошлое и будущее, миф всегда повествует о прошлом, которое священно. При формировании мифа постепенно приходило понимание того, что полноценный миф может появиться лишь при реализации следующих алгоритмов: 1) конструктор; 2) инициатор; 3) трансформатор; 4) синхронизатор [Элиаде М. Аспекты мифа / Пер. с фр. В. Большакова. – Инвест-ППП, 1995]. В нашем случае миф формируется из того, что имелось в содержании образного представлении конкретного рода-племени – кара-кулов (алгоритм «Конструктор»! ). Ажыдар является родоначальником и символом Зла, а поход против него олицетворяет вечное стремление людей к Добру, передаваемое друг другу из поколений в поколение. Они помогают увидеть наших предков современными глазами.
При формировании мифа исходным были лишь умозрительные мысли о феномене горы Тегерек (алгоритм «Инициатор»! ). Описывается реальность событий, заставляющая ощутить неотвратимую потребность людей взять на себя боль и страдания рода людского. Нужно отметить, что миф сформулирован исходя из личных представлений о Зле и его феноменах (алгоритм «Трансформатор»! ). Стремление рода навсегда взять в плен ажыдара напоминает о пророке, который не знает о себе, что он пророк. Миф сформулирован на базе философского осмысления проблемы непрерывной борьбы со Злом (алгоритм «Синхронизатор»! ).
В чем заключается логика формирования мифа? Прежде всего, сформулировать жизнедеятельное продолжение мифа с учетом новых реальностей. Можно упрятать ажыдара в каменный саркофаг, но нельзя прервать проклятье Круга Зла. Зло всегда возвращается и это нужно понимать. Эта мысль является сквозной.
Кара-кулы сведены вместе не только в силу завещанной родовой ответственности, но и страха конечно. Но у них нет безумного страха и апатичной покорности, они всегда помнят и стремятся оградить зло. Но и им бы тоже вырваться из этих символических долгов в иную жизнь, вольную, с открытыми возможностями. То есть вольготно, как и другие роды-племена покинуть страну каньонов и пещер, вырваться за ее пределы, чтобы приобщиться к общемировым знаниям и культурам. Об этом говорится устами старца Ак-киши-олуя, Ашим-баба, Асан-баба, Омурзак-ава, Айсулуу-эне [Ашимов И. А. (Кара Дабан). Тегерек. Философский роман-аллегория. – Бишкек, 2014. – 217 с.].
В романе «Тегерек» – край каньонов и пещер – это мифологическое пространство. Но если присмотреться к той местности, которая описывается в мифе, то реальность неоспорима. Следует отметить, что пространство в древнетюркском мифе переживается эмоционально-чувственно – пространство соотносится с телом человека, ориентировано подобно телу и относительно его. Каньоны и пещеры – это символы хаоса. В мифе о Тегерек, герои живут и передвигаются в этом пространстве, и тут мифу неважна точность в описании передвижения, неважна логика его действий, и цель передвижения.
Как известно, для мифологического сознания важен сам путь, как сакральное действо. В нашем случае блуждание в хаосе и любой путь приводит к Тегерек, как к символу победы над хаосом. То есть в онтологической структуре мифа в пространстве мы можем наблюдать параллелизм в виде существования видимого и невидимого миров. В мифе много названий в виде Кара-кулы, Кара-камар, Кара-даван, Кара-молдо, Кара-бахшы. Как правило, чернота обладает обширным спектром негативных и, вселяющих иногда ужас, ассоциаций. Прежде всего, это цвет ночи, когда могут напасть безымянные, бесформенные существа. Чернота – это цвет Космогонического Хаоса. С точки зрения происхождения сущего, это знак смерти и погребения.
Именно черный цвет считается цветом зла в столь удаленных друг от друга регионах, как Европа, Африка, Тибет и Сибирь. С онтологической точки зрения, черный цвет – это небытие, ничто. В физическом смысле он подразумевает слепоту, а в психологии он обозначает ужасную страну сновидений и бессознательного. Черный цвет связывают с ментальной депрессией, с ослаблением интеллектуальных способностей, с безверием и нравственным пороком. Вот почему все действия Широза – Кара-бахшы происходит в ночное время, в пещерах и темных углах.
Следует заметить, что у кыргызов зачастую приставка «кара» означает, наоборот, силу, могущество. Процесс рождения названий ландшафтных объектов означал их символическое воссоздание, который символизировал освоение пространства и возможность управления природой и миром. Пространство (край каньонов и пещер), населенное одним родом – род кара-кулы, понималось как своеобразный модель мира, что послужило основой для формирования понятия «тотемный мир». События в пределах этого мира – это путешествие в иное, мистическое пространство, некий виртуальный мир (Тегерек и его чрево), где погребен ажыдар (зло). Потому этот мир окутан тайной, опасно для человека, рода людского в целом.
Как известно, выделяют следующие основные группы ритуалов мифа: во-первых, жертвоприношения; во-вторых, преодоления; в-третьих, соприкосновения; в-четвертых, поклонения. Конкретный род кара-кулов лицом к лицу встречается со Злом и пытается его нейтрализовать на свой страх и риск (ритуал жертвоприношения!). Кара-кулы пытаются заострить внимание на проблему беспечности рода людского в борьбе с проклятьем Круга Зла (ритуал преодоления!). В мифе подчеркивается диалектическая связь таинственности и реальности (ритуал соприкосновения!). Тегерек признается символом сакральной победы Добра над Злом (ритуал поклонения!).
Итак, Тегерек – это заголовок текста и это имя мифа. Та самая последняя – скрепляющая и завершающая – стадия нового мифа. Как писал Ч.Т.Айтматов: «… правда пребудет вовеки, пока рождаются и умирают люди, пока живут в нашем сознании сказки, легенды и мифы. Ведь они созданы народом. Учат нас добру и справедливости, где испокон веков добро побеждает зло, которые запав однажды в душу, очнулись вдруг и заговорили прекрасным и мудрым языком эпоса…» Вот и в нашем случае встреча мифа с реальностью состоялась, как воплощение людского опыта истиной неразделимости Человека, Времени и Природы [Айтматов И. Т. И дольше века длится день. – Бишкек, 2000].
Б.К.Малиновский (1884—1942) пишет – «…миф является повествованием, которое воскрешает первозданную реальность, отвечает глубоким религиозным потребностям, духовным устремлениям, безусловным требованиям социального порядка, и даже требованиям практической жизни». По мнению автора – в цивилизациях примитивных народов миф исполняет незаменимую функцию: во-первых, он выражает, возвышает и кодифицирует верования; во-вторых, он защищает и налагает моральные принципы; в-третьих, он гарантирует действенность ритуальной церемонии и предлагает правила для практической жизни, необходимые человеческой цивилизации; в-четвертых, он отнюдь не лишенная содержания выдумка, а напротив – живая реальность, к которой человек постоянно обращается [Малиновский Б. Магия, наука, религия// Магический кристалл: Магия глазами ученых и чародеев. – М.: Республика, 1992. – С.84 – 127].
М. Элиаде (1907—1986) выделяет пять основных положений, касающихся любого мифа: 1) Составляет историю подвигов тех или иных героев; 2) Представляется как абсолютная истина и обладает сакральной наполненностью; 3) Всегда имеет отношение с «созданию», он рассказывает, как что-то явилось в мир или каким образом возникли определенные формы поведения, а потому составляет парадигму всем значительным актам человеческого поведения; 4) В процессе познания человеком объясняет «происхождение» вещей, что позволяет овладеть и манипулировать ими по своей воле. Речь идет не о «внешнем», «абстрактном» познании, но о познании, которое «переживается» ритуально; 5) Так или иначе «проживается» аудиторией которая захвачена священной и вдохновляющей мощью воссозданных в памяти и реактуализировавшихся событий [Элиаде М. Аспекты мифа / Пер. с фр. В. Большакова. – Инвест-ППП, 1995].
Указанные положения функционируют и в новом мифе. На наш взгляд, миф о Тегерек правдоподобен, сакрален, надеемся, что будет признан. Во временной удаленности событий, хранимых памятью рода, можно видеть, по меньшей мере, несколько ступеней: 1) Это события «далекого прошлого», подлинность которых передается из поколения в поколение; 2) Это «историческое» прошлое, сообщение о котором передается «непосредственно-коммуникационным» способом (прапрадеду рассказал прапрадед, а тому в свою очередь его прапрадед и т.д.); 3) Это собственно мифологическое «давно прошедшее», время рождения сохранившихся по сей день некоторых традиций и верований.
В указанном аспекте, миф продолжает присутствовать «здесь» и «сейчас». Можно представить себе, что для мифологического сознания существует некая «другая реальность», которая способна актуализоваться в «нашем» пространстве и оказывать на повседневную жизнь человека ощутимое влияние [Мелетинский Е. М. Миф и двадцатый век // Избранные статьи. Воспоминания. – М., 1998. – С.421]. Речь идет о вечном Круге зла, о непрестанной борьбе Добра со Злом, о вечном поиске способов прерывания проклятия Круга Зла.
Существует разновидность мифа, которую называют эсхатологическим мифом, который дает и обосновывает появление нового эсхатологического феномена [Айтматов И. Т. Тавро Кассандры. – Б., 2000]. Полагаем, что феномен-гора «Тегерек» относится именно к этой категории мифов. Как и любой миф, этот миф представляет констатацию воображаемых событий (возвращение Зла!), подлинный же интерес вызывает не столько сам миф, сколько его источник, причина возникновения, а это, непременно, борьба со Злом.
Безусловно, язык мифа обладает огромными потенциями символизации (а мир символов по своим значениям в высшей степени мифологичен), само по себе мифологическое повествование обычно вполне конкретно и склонно передавать свои обобщения через образы предметного мира [Айтматов И. Т. И дольше века длится день. – Б., 2000]. Однако массовые, спонтанные устные традиции до некоторой степени сохраняют конкретность своего образного строя – даже в тех случаях, когда нашему рационально ориентированному зрению в них видится условность и отвлеченность от реальности. В нашем случае к ним относятся саркофаг (Тегерек, Чернобальская АЭС), пещеры (Кара-камар, Астын-устун, Келин-басты), круг, ажыдар, чернокнижник (Широз-бахшы или кара молдо), проклятья и заклинания.
Уместно привести некоторые теории мифа. С.Ю.Неклюдов в свое статье «Структура и функция мифа» пишет: «миф» в обиходе означает то, что не признается соответствующим действительности; в мифе видят фантом, рождаемый наивностью массового человека [Неклюдов С. Ю. Образы потустороннего мира в народных верованиях и традиционной словесности // Восточная демонология. От народных верований к литературе. – М., 1998. – С.6—43]. В научной литературе определение «мифологический» прилагается к тому типу знания, которое базируется не на рациональных доказательствах, а на вере и убеждениях: во-первых, имеет особую логическую структуру, отличную от позитивного мышления; во-вторых, не соблюдается закон «исключенного третьего»; в-третьих, суть подменяется происхождением; в-четвертых, событиям приписывается обязательная целенаправленность; в-пятых, соседство во времени принимается за причинно-следственную связь и т. д.
Общеизвестно, мифы являются продуктами бессознательного, очищенными и модифицированными сознанием. Поскольку сознание редко отслеживает все проявления бессознательного, мифология составляет большую, чем рациональность, часть человеческого опыта. Как говорил Леви-Стросс, «…большинство человеческих мыслей не логичны, но аналогичны, и лучше всего мы понимаем человеческую культуру, когда понимаем ее по аналогии» [Антология философской мысли. Русский космизм /Сост.: Семенова С. Г., Гачева А. Г. – М., 1993]. В этом плане, считаем важным поиск аналогии символа «Тегерек». Это «Саркофаг» Чернобыльской АЭС. В том и другом аналоге речь идет о пленении Зла. Такое художественно-философское решение является рационально-образным.
Г. Франкфорт (1897—1954) писал: «мифы являются продуктами воображения, но это не просто фантазия. Важно отличать настоящий миф от легенды, саги, басни или сказки… Настоящий миф отличается властным принуждением. В нем свершается откровение к „Тебе“. И это ни что иное, как тщательно подобранный покров для абстрактной мысли» (1952) [Антология мировой философии. – В 4-х т. – М.: Мысль, 1969—1972]. Писатель Ричард Вудс указывает: «Миф раскрывает символическую природу истины человеческого бытия» [цит. – Вюнанбурже Ж.-Ж. Принципы мифопоэтического воображения. – М.: Директ-Медиа, 2010. – С.42—46]. В этом аспекте, эсхатологическое предупреждение о возможности постоянного возвращения Зла («Проклятье Круга Зла» является существенным мотивом мифа о Тегерек, а ажыдар является символом такого зла).
Таким образом, несмотря на то, что в мифах, на первый взгляд, нет буквальной или научной истины, они выражают еще более глубокую истину, сокрытую в недрах человеческого сознания. В нашем случае речь идет об «ажыдаре там» и «ажыдаре в себе». Важно не только буквальная победа над ажыдаром, но и победа над «внутренним» ажыдаром, каковым является страх, насилие, алчность, жажда богатства и власти и пр.
Интересно то, что миф способен трансцендировать рациональные категории, и это его свойство имеет огромное значение для понимания символа зла. Для рационального мышления добро и зло кажутся взаимоисключающими категориями. «Миф же, с другой стороны, стремится соединить обе стороны единого, усматривая свет во тьме, добро во зле, порядок в беспорядке, и некоторый сорт высшего единства» [Неклюдов С. Ю. Образы потустороннего мира в народных верованиях и традиционной словесности // Восточная демонология. От народных верований к литературе. – М., 1998. – С.6—43]. В этом аспекте, в мифе о Тегерек, зло иногда рассуждает категориями добра, а в кажущейся доброте прослеживается признаки зла.
Поскольку историческое исследование мифа переводит символические модусы мышления в когнитивные и, тем самым, привносит в миф все проблемы, присущие реальному миру, мы можем сказать, что миф в большей степени, чем рациональное мышление, является тем материалом, из которого можно эффективно формировать мотивы размышления о смысле и природе зла [Вюнанбурже Ж.-Ж. Принципы мифопоэтического воображения. – М.: Директ-Медиа, 2010. – С.42—46].
Нужно признать, что именно методология концептов зла Дж. Б. Расселла (1872—1970) обеспечить правильное представление о зле, в ракурсе человеческой психологии, интеграции теологических и философских теорий, а также простого человеческого и человечного понимания этой проблемы. Только в мифе встречается совпадение противоположностей [Рассел Б. Проблемы философии. – Новосибирск: Наука, 2001]. Речь идет о двойственности божества, когда бог понимается как свет и тьма, как добро и зло. Только в мифологии принцип зла представлен как обратная сторона принципа добра, как тень Бога.
В аспекте взаимодополняемости Мифоса и Логоса следует подчеркнуть, что в последнее время во всем мире наблюдается ренессанс изучения мифа как такового. По мнению исследователей происходит ремифологизация гуманитарного познания, пришедшей на смену демифологизации науки рационалистическо-позитивистской традицией [Неклюдов С. Ю. Образы потустороннего мира в народных верованиях и традиционной словесности // Восточная демонология. От народных верований к литературе. – М., 1998. – С.6—43]. Аналитическая проработка соответствующей литературы показывает, что периоды ремифологизации и демифологизации сменяют друг друга на протяжении всей истории почти с закономерностью природных циклов, свидетельствуя о жизненной значимости мифа, прежде всего, для культуры.
Исследователи вновь и вновь обращаются к проблеме идентификации мифа: что такое миф сам по себе? По А. Ф. Лосеву (1883—1988), «миф не находится всецело вне философии и поэтому не может быть окончательно взят как отстраненный объект ее изучения. Миф какой-то своей частью входит в существо философии и, явно или скрытно, влияет на создание и выражение его истин» [Лосев А. Ф. Философия имени. Из ранних произведений. – М., 1990]. В этом аспекте, двуединство Логоса и Мифоса очевидно. Возникла теоретическая кольцевая конструкция, как идеальная форма взаимного обоснования философией и мифом друг друга.
По Ж.-Ж. Вюнанбурже, «миф в начале определяется как повествовательный объект, эксплицитно облеченный в форму текста и имплицитно трансформируемый в визуальную репрезентацию, что исходно задает двойную перспективу его истолкования – как слова и как образа» [Вюнанбурже Ж.-Ж. Принципы мифопоэтического воображения. – М.: Директ-Медиа, 2010. – С.42—46]. Это единство двух противоположных способов восприятия мифического сообщения – слухового и зрительного – всегда создавало трудности для целостного понимания. Беря в изоляции слово и образ, изначально слитые в мифе, рациональная мысль препарирует по отдельности каждый из его моментов, теряя их сущностную связь.
Основанная на субъект-объектном дуализме наука с разных сторон отрывает от мифа тот или иной его момент, исследуя языковую структуру текста в семиотическом направлении или особенности образного восприятия средствами психологии. Но при этом теряется тождественность субъективного и объективного в мифе. Такой абстрактный подход приводит к редуцированию мифа к низшей, архаической форме мышления, преодоленной рациональностью науки [Вригт Г. Х. Логико-философские исследования. Избранные труды. М., Прогресс, 1986, с. 101].
Между тем, в мифе есть собственное неразрушаемое смысловое ядро. В этом аспекте, миф является самостоятельным способом познания и оформления истины, параллельным логическому способу [Вюнанбурже Ж.-Ж. Принципы мифопоэтического воображения. – М.: Директ-Медиа, 2010. – С.42—46]. Но возможно ли такое познание, когда миф оперирует воображением, представлением, сказанием, а наука – понятием, суждением, умозаключением? Способность к мифотворчеству необходимо искать в недрах самого разума. Об этом утверждал еще Аристотель (380—322 до н.э.): «В трансцендентальном воображении образы имеют творческую порождающую силу, являясь образами самого бытия» [Аристотель. Большая этика. – Соч. 4 т. – М.: Мысль, 1984. – С.295—374].
Таким образом, для познания мира существует два равномощных способа постижения: Логос и Мифос. В случае устранения одного из них, функцию познания берет на себя другой. То есть ставится вопрос о взаимодополнительности Логоса и Мифоса. Предпосылки к позитивному решению этой проблемы имелись во многих теориях: во-первых, в учении стоиков о схватывающем воображении; во-вторых, в дильтеевской диалектике объяснения и понимания; в-третьих, в неокантианской трактовке символического мышления; в-четвертых, в бергсонианской концепции интуиции и пр.
Итак, мифотворчество является особым процессом, имеющим не только психологическое значение, но и теоретико-познавательное, так как включен в архитектонику разума: во-первых, миф выводит мышление из тайны и возвращает его обратно в стихийной игре символических образов, выражающих невыразимое; во-вторых, миф высказывает абсолютное целостным образом, сохраняя его трансцендентность [Вюнанбурже Ж.-Ж. Принципы мифопоэтического воображения. – М.: Директ-Медиа, 2010. – С.42—46].
В мифическом творческом воображении обнаруживается удивительное явление – образы имеют независимое от субъективной мысли существование, взаимоотражаясь и взаимодействуя друг с другом по своим собственным законам. Этот мир «действующих» образов и составляет стихию и сферу мифотворчества. Исследователи обращают внимание на то, что в свое время лишь в философских концепциях неоплатонизма удалось выразить истину на пересечении логического и мифического измерений [Рассел Б. Проблемы философии. – Новосибирск: Наука, 2001].